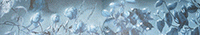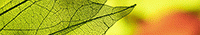качели | 1
…когда ты плачешь, скрипучие качели под домом на глазах опаснеют –
пробивают новый стеклопакет навязчивыми мотивами:
«здесь был вася», «перезвоню», «в пеньюаре, желательно, в красном»,
«страшно, когда нечего забывать, было бы – забыла бы».
когда ты дрожишь, ограничивая возможные гаваи пиццей и овощными смесями,
понапрасну часами ищешь заточку-дельфинку в последних страничках паспорта,
развешиваешь лисят на ёлках, и лисятам твоим – новогодне весело,
качели скрипят тише.
качели подбирают пассворды
к распятой на весле, которая разыскивает с-веслёнком-мальчика,
которая ходит нечёсаная, охалаченная,
вышивает глаза чёрным, спотыкается о ничейные вдребезг тапочки,
говорит в телефон несвязную несуразную всячину
о том, что чудеса проходят,
но в холодильнике несётся курочка-рябушка –
золотыми рыбками и обручальными пластмассками…
и качели слушают.
и раскачиваются в крымской ракушке,
заставляя шуметь море.
и море шумит непозволительно ласкаво,
заглушая её слова.
опрокидывая скрип качели.
загоняя снег в небо, как тараканов – в щели…
2
может, снег на ботинках, а может быть, снег на ничём.
ирис неба пустила зима на пошив дурачин, и
мне мерещатся просто прощальные клювы, грачино
целовавшие, в «юг» пээмжируя, грудь и плечо,
и булгаковский пёс, оскверняющий сиську двора,
и торговка с морковкой, как снежная баба почти что,
и январские «бризы» в сто всхлипов про «женщина – дышло»,
что по кругу вертели всех баб, словно те – флюгера…
мне мерещится всё – снег на локонах, шепчущий «лён»,
и тв-гайморит, прорывающий виолончелью…
.. а всего-то и было, что вмёрзли в морозы качели,
и кащей-двородержец принёс к ним слезинку и лом.
3
вверх-вниз, тудым-сюдым – ну что вы, что вы! –
не так, как вы изволили решить!
вертеться под медведицей фиговой,
как центы или прочие гроши,
подбрасывать хореи и архивы,
как землю, фонари и облака,
держать, как зло, в руках верёвок гриву,
и тошноту и страхи отвлекать.
тудым-сюдым, сквозь чудеса – в икоту,
с макушек деревянных – и в дрова…
болезнь морская,
вялый лунный котик,
обросший мехом в клетку марваря,
и эти, что мелькают, как литавры, –
перпетуум «медведица-бетон», –
они давно, хронически, летают.
а ты боишься спрыгнуть.
как дитё… | |