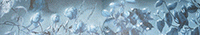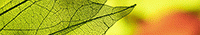|

Было бы высокомерием полагать, что невозможно объяснить большинству других людей то, что мы хорошо знаем сами (Конрад Лоренц )
Поэзия
Все произведения Избранное - Серебро Избранное - ЗолотоК списку произведений
У подъезда сульчинская снова не может уснуть. | У подъезда сульчинская снова не может уснуть.
У сульчинской сегодня совсем не сульчинская грусть.
А какая-то та, словно шепчет старуха одна,
Что богатство окончится. Несколько окон осталось.
(в них квадраты чернеют) что сердце напрасно сражалось
Отделяя себя от квадрата литого окна.
Пусть уснут, отделяя себя, времена.
Пусть окончится время само, как понятье о прошлом,
Как понятье о будущем. Если б сульчинской печать
Дать ту самую, что запечатала б мысли
В белом конверте, да сразу б послала туда,
Где её ждёт голубая в постели звезда.
Где ходят глухие: в коленах одна лебеда,
В коленах земля, словно пух, корешки, словно буки.
У подъезда сульчинская видит какие-то звуки.
Пару звуков берёт. Почему появляется звук,
Почему появляется жук, этот снег или лето?
Почему разлетается это, да камнем ступает по свету
Медленных гор? Почему нет любви окончанья
К жизни концу? Почему мы не знаем молчанья,
Меры, покоя? Зачем нам благие слова?
Взрослая их разбирает едва голова:
Да: вот это умно. Да, а это, наверно. Оно
Было б лучше сульчинской не быть, и вот так не стоять.
Да у порога себе на словах объяснять,
Как это можно вообще. Но какое окно
Может вместить этот мир? И какая звезда
Может упасть, и упасть вообще в никуда?
Если б не эти сопящие груды домов,
Если б не это домашнее племя богов,
Если б не эта тревожная звёздная мгла,
Ты бы везде понемногу, всегда бы спала.
@@@
Мне точно наказанье это свыше.
Мне точно это ниже серебра.
Есть у меня несчастная сестра,
Что может, будет счастлива хоть в браке.
Мне точно наказанье, что я слышу?
Что нет добра от старого добра.
А есть добро от нового добра,
Ещё не опоганенного чем-то.
Ещё не засорённого ничем.
И я люблю смотреть на новый день,
Сияющий, как вымытая чашка.
Как платье он, что одевал лишь воздух,
Да и воображение, когда
В витрину пара глаз смотрело. Больше
Люблю я первое влечение. Я вижу
Одно хорошее. И я почти у ног
Готов просить, как бога, о великом
И равном жизни, может быть, моей.
Люблю сестру. Когда она сейчас
С племянницами возится, я слышу.
Как их зовёт. Всё лучшее отцов
Досталось им. Особенно черты.
Черты характера. Есть старое добро.
Есть новое добро. Есть вечное добро.
А вечность доброй быть не может,
Пусть люблю я новое, и детство, и цветы:
Ведь их не станет завтра, как и нас.
Как мыслей наших. Каждая мечта
Уснёт, свернётся где-нибудь в углу. Над нами
Лишь новый день, наполнен чистотой.
@@@
Как ты – аэд! – мог бросить своё знамя.
Я знал тебя: недавно ты стонал
При виде красной тряпки на шесте.
Ты убивал непримиримым взглядом
Любую скуку. Ты засел в скалу
И ищешь глубины. И дальше, дальше
Спускаешься, – что в сердце? – посмотреть.
Платок завязан белый на плече.
А после ты сидишь там, в глубине,
И тишина здесь так же борет скуку
Сплошная. Далеко какой-то флаг
Тебе мерещится. И пропадает.
И проплывает кораблём весь мир.
Ты в нём сидишь. Ты заперт. А кругом
Моря полотнищ алых, золотых.
И белой тряпкой пара облаков. | |
| Автор: | vadimkabanya | | Опубликовано: | 01.03.2011 05:58 | | Просмотров: | 1891 | | Рейтинг: | 0 | | Комментариев: | 0 | | Добавили в Избранное: | 0 |
Ваши комментарииЧтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться |
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!
Кобаяси Исса

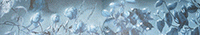
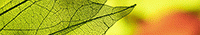
 Авторизация Авторизация Камертон Камертон
М. Б.
Провинция справляет Рождество.
Дворец Наместника увит омелой,
и факелы дымятся у крыльца.
В проулках - толчея и озорство.
Веселый, праздный, грязный, очумелый
народ толпится позади дворца.
Наместник болен. Лежа на одре,
покрытый шалью, взятой в Альказаре,
где он служил, он размышляет о
жене и о своем секретаре,
внизу гостей приветствующих в зале.
Едва ли он ревнует. Для него
сейчас важней замкнуться в скорлупе
болезней, снов, отсрочки перевода
на службу в Метрополию. Зане
он знает, что для праздника толпе
совсем не обязательна свобода;
по этой же причине и жене
он позволяет изменять. О чем
он думал бы, когда б его не грызли
тоска, припадки? Если бы любил?
Невольно зябко поводя плечом,
он гонит прочь пугающие мысли.
...Веселье в зале умеряет пыл,
но все же длится. Сильно опьянев,
вожди племен стеклянными глазами
взирают в даль, лишенную врага.
Их зубы, выражавшие их гнев,
как колесо, что сжато тормозами,
застряли на улыбке, и слуга
подкладывает пищу им. Во сне
кричит купец. Звучат обрывки песен.
Жена Наместника с секретарем
выскальзывают в сад. И на стене
орел имперский, выклевавший печень
Наместника, глядит нетопырем...
И я, писатель, повидавший свет,
пересекавший на осле экватор,
смотрю в окно на спящие холмы
и думаю о сходстве наших бед:
его не хочет видеть Император,
меня - мой сын и Цинтия. И мы,
мы здесь и сгинем. Горькую судьбу
гордыня не возвысит до улики,
что отошли от образа Творца.
Все будут одинаковы в гробу.
Так будем хоть при жизни разнолики!
Зачем куда-то рваться из дворца -
отчизне мы не судьи. Меч суда
погрязнет в нашем собственном позоре:
наследники и власть в чужих руках.
Как хорошо, что не плывут суда!
Как хорошо, что замерзает море!
Как хорошо, что птицы в облаках
субтильны для столь тягостных телес!
Такого не поставишь в укоризну.
Но может быть находится как раз
к их голосам в пропорции наш вес.
Пускай летят поэтому в отчизну.
Пускай орут поэтому за нас.
Отечество... чужие господа
у Цинтии в гостях над колыбелью
склоняются, как новые волхвы.
Младенец дремлет. Теплится звезда,
как уголь под остывшею купелью.
И гости, не коснувшись головы,
нимб заменяют ореолом лжи,
а непорочное зачатье - сплетней,
фигурой умолчанья об отце...
Дворец пустеет. Гаснут этажи.
Один. Другой. И, наконец, последний.
И только два окна во всем дворце
горят: мое, где, к факелу спиной,
смотрю, как диск луны по редколесью
скользит и вижу - Цинтию, снега;
Наместника, который за стеной
всю ночь безмолвно борется с болезнью
и жжет огонь, чтоб различить врага.
Враг отступает. Жидкий свет зари,
чуть занимаясь на Востоке мира,
вползает в окна, норовя взглянуть
на то, что совершается внутри,
и, натыкаясь на остатки пира,
колеблется. Но продолжает путь.
январь 1968, Паланга
|
|