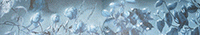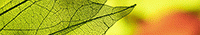жене
Долетит мой ковёр-самолёт
из заморских краев корабельных,
и отечества зад наперёд —
как накатит, аж слёзы на бельмах.
И, с таможней разделавшись враз,
рядом с девицей встану красавой:
— Всё как в песне сложилось у нас.
Песне Галича. Помнишь? Той самой.
Мать-Россия, кукушка, ку-ку!
Я очищен твоим снегопадом.
Шапки нету, но ключ по замку.
Вызывайте нарколога на дом!
Уж меня хоронили дружки,
но известно крещёному люду,
что игольные ушки узки,
а зоилу трудней, чем верблюду.
На-кась выкуси, всякая гнусь!
Я обветренным дядей бывалым
как ни в чём не бывало вернусь
и пройдусь по знакомым бульварам.
Вот Охотный бахвалится ряд,
вот скрипит и косится Каретный,
и не верит слезам, говорят,
ни на грош этот город конкретный.
Тот и царь, чьи коровы тучней.
Что сказать? Стало больше престижу.
Как бы этак назвать поточней,
но не грубо? — А так: НЕНАВИЖУ
загулявшее это хамьё,
эту псарню под вывеской «Ройял».
Так устроено сердце моё,
и не я моё сердце устроил.
Но ништо, проживём и при них,
как при Лёне, при Мише, при Грише.
И порукою — этот вот стих,
только что продиктованный свыше.
И ещё. Как наследный москвич
(гол мой зад, но античен мой перед),
клевету отвергаю: опричь
слёз она ничему и не верит.
Вот моя расписная слеза.
Это, знаешь, как зёрнышко риса.
Кто я был? Корабельная крыса.
Я вернулся. Прости меня за...
1995