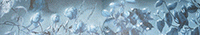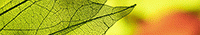|

Я христианин и католик, но чтобы быть художником, ни того, ни другого не требуется (Сальвадор Дали)
Проза
Все произведения Избранное - Серебро Избранное - ЗолотоК списку произведений
Первая любовь... | "...Вечная любовь,
Верны мы были ей,
но время зло для памяти моей,
Чем больше дней -
глубже рана в ней..." | Желтые листья зацепились за дворники на лобовом стекле машины, моросящий дождь делал равномерно серое московское небо еще ближе к земле, хотя куда уж ближе - и так на плечах лежит. Это удивительное свойство московского неба – быть ровно серым, безукоризненно серым без посторонних вкраплений. Солнце исчезает над головой вместе с первыми золотыми листьями и появляется с набухшими почками.
Для кого-то слякотная зима делает Москву еще более неприветливой, чем принято судачить о городе за его пределами, чем дальше, тем безоговорочней – Москва сумасшедший город. Я люблю Москву! Если говорить о любви к точке на карте, эта пожалуй – моя «первая любовь» к городу, а вот «первая любовь» к мужчине случилась совсем в другом месте.
Дождь совершенно точно не собирался заканчиваться, его настойчивость делала тепло внутри машины еще более уютным. Из динамиков тихо бренчала музыка. На экране телефона замигал конвертик, намекая на новое письмо. От Давида. Удивительная способность у человека – появляться, когда моя жизнь делала очередной фортель. Причем совершенно без разницы сколько лет до этого мы не пересекались, в жизни перемены масштаба ядерного взрыва – получите, распишитесь - Давид. А эти самые – ядерные - взрывались у меня с завидным постоянством. Вот и сейчас, только стоило порозоветь моим щекам после обескровившей их smsки: «Я ухожу. Ты замечательная, а я слабый», - от текущего обладателя моего сердца - как в почтовом ящике образовалось письмо от «первой любви» чуть не унесшей, в свое время, мой разум в Кащенко.
Полюбопытствуем: «...помню многое про Тебя, там, в прошлом... Ты всегда была прозрачной, странно-нежной и убеждённой в правильности происходящего вокруг Тебя действа... и... Ты любила...Ты была стойкой! Твой стоицизм стал понятен и восхищает, увы, только сейчас... как благодарен Тебе за то, что было между нами... Сколького не сумел бы прочувствовать и понять без Тебя...» Черт, какая я классная! И почему до сих пор не называют улицы моим именем? Ну, или звезду на худой конец.
«Первая любовь» - чувство, входящее в базовую комплектацию любого хоть мало-мальски способного на чувственные проявления человека. Почти ветрянка, редко кого минует чаша сия и, как правило, мы цепляем обе заразы в детстве, реже - будучи уже людьми взрослыми, с «историей». Все, что случается с нами впервые – особенное, хотя бы потому, что раньше не было, а сейчас случилось.
Этот самый паралич «первой любви» разбил меня в восьмом классе. Я только слегка освоилась в новой школе и на одной из перемен вижу, надвигается на меня – ну, чистый врубелевский демон! Ухоженный, броский купаж двух союзных республик. Грузинское наследие отца сделало его ярким брюнетом, а украинское матери не явным грузином. Хуже это кровосмешение сказалось на характере, но не факт, что подсуропили национальные особенности, больше похоже на тлетворное влияние семейного уклада. Степенный, заносчивый, взрывной, подчеркнуто романтичный и приплюсуйте сюда упомянутую ранее яркую внешность – всё, пленных не берут, кругом одни поверженные! В тот самый день и началась эта наркотическая зависимость от ничем не объяснимой любви, затянувшаяся на совершеннолетие. Для тех, кто не помнит, в Российской Федерации к совершеннолетию мы движемся восемнадцать лет. Вот и чувство к Давиду не давало мне покоя, с разной правда интенсивностью, в течение восемнадцати лет.
Многое «первое» связалось в моей женской судьбе с ним. Как первый поцелуй, так и первый адюльтер. Вот золотые времена были для ветреных натур! Не было тогда еще мобильных телефонов и городские тоже звенели не в каждом доме. Ушел прогуляться и никаких тебе: «Милая, что с твоим голосом? Ты где?». И нервы в порядке и ячейка общества. Но это так, лирическое отступление.
Понимаю я, конечно, что быть не очень верной не хорошо, но отказать себе в близости с «первым трепетом сердца моего» силы воли не хватило. Как оказалось, никакого особо ценного опыта не приобрела, но зато избавила себя от терзаний, что, мол, вот он-то наверняка особенный, не сравнимый ни с одним из смертных. Так ведь с этим заблуждением и всю жизнь протомиться можно. Да такой же точно, как основная масса традиционно ориентированных! Не верно оцененный гений с брезгливым отношением к способностям почти всего живого, включая дрессированных пуделей и поэтов-песенников.
Жалею ли я, что он был в моей жизни или что не сложилось? Нет, конечно! И пусть на запястье остался шрам (как бы не так - вены вскрывать, даже «первая любовь» того не стоит, просто приложила раскаленные щипцы дабы оставить на своем теле шрам в том же месте, что у него…конечно глупо, но, слава Богу, не летально), девичий дневник залит слезами, а подаренное им колечко сломалось, но в череде воспоминаний жирнющей радужной кляксой остались наша юношеская любовь, бескомпромиссная, трогательная и светлая. Не будь таких ярких эмоциональных моментов в жизни - и она превратится в серую безликую массу, как зимнее московское небо… | |
| Автор: | MartaMarkman | | Опубликовано: | 19.01.2011 02:22 | | Создано: | 25.10.2010 | | Просмотров: | 2886 | | Рейтинг: | 0 | | Комментариев: | 0 | | Добавили в Избранное: | 0 |
Ваши комментарииЧтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться |
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!
Кобаяси Исса

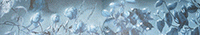
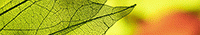
 Авторизация Авторизация Камертон Камертон
Здесь, на земле,
где я впадал то в истовость, то в ересь,
где жил, в чужих воспоминаньях греясь,
как мышь в золе,
где хуже мыши
глодал петит родного словаря,
тебе чужого, где, благодаря
тебе, я на себя взираю свыше,
уже ни в ком
не видя места, коего глаголом
коснуться мог бы, не владея горлом,
давясь кивком
звонкоголосой падали, слюной
кропя уста взамен кастальской влаги,
кренясь Пизанской башнею к бумаге
во тьме ночной,
тебе твой дар
я возвращаю – не зарыл, не пропил;
и, если бы душа имела профиль,
ты б увидал,
что и она
всего лишь слепок с горестного дара,
что более ничем не обладала,
что вместе с ним к тебе обращена.
Не стану жечь
тебя глаголом, исповедью, просьбой,
проклятыми вопросами – той оспой,
которой речь
почти с пелен
заражена – кто знает? – не тобой ли;
надежным, то есть, образом от боли
ты удален.
Не стану ждать
твоих ответов, Ангел, поелику
столь плохо представляемому лику,
как твой, под стать,
должно быть, лишь
молчанье – столь просторное, что эха
в нем не сподобятся ни всплески смеха,
ни вопль: «Услышь!»
Вот это мне
и блазнит слух, привыкший к разнобою,
и облегчает разговор с тобою
наедине.
В Ковчег птенец,
не возвратившись, доказует то, что
вся вера есть не более, чем почта
в один конец.
Смотри ж, как, наг
и сир, жлоблюсь о Господе, и это
одно тебя избавит от ответа.
Но это – подтверждение и знак,
что в нищете
влачащий дни не устрашится кражи,
что я кладу на мысль о камуфляже.
Там, на кресте,
не возоплю: «Почто меня оставил?!»
Не превращу себя в благую весть!
Поскольку боль – не нарушенье правил:
страданье есть
способность тел,
и человек есть испытатель боли.
Но то ли свой ему неведом, то ли
ее предел.
___
Здесь, на земле,
все горы – но в значении их узком -
кончаются не пиками, но спуском
в кромешной мгле,
и, сжав уста,
стигматы завернув свои в дерюгу,
идешь на вещи по второму кругу,
сойдя с креста.
Здесь, на земле,
от нежности до умоисступленья
все формы жизни есть приспособленье.
И в том числе
взгляд в потолок
и жажда слиться с Богом, как с пейзажем,
в котором нас разыскивает, скажем,
один стрелок.
Как на сопле,
все виснет на крюках своих вопросов,
как вор трамвайный, бард или философ -
здесь, на земле,
из всех углов
несет, как рыбой, с одесной и с левой
слиянием с природой или с девой
и башней слов!
Дух-исцелитель!
Я из бездонных мозеровских блюд
так нахлебался варева минут
и римских литер,
что в жадный слух,
который прежде не был привередлив,
не входят щебет или шум деревьев -
я нынче глух.
О нет, не помощь
зову твою, означенная высь!
Тех нет объятий, чтоб не разошлись
как стрелки в полночь.
Не жгу свечи,
когда, разжав железные объятья,
будильники, завернутые в платья,
гремят в ночи!
И в этой башне,
в правнучке вавилонской, в башне слов,
все время недостроенной, ты кров
найти не дашь мне!
Такая тишь
там, наверху, встречает златоротца,
что, на чердак карабкаясь, летишь
на дно колодца.
Там, наверху -
услышь одно: благодарю за то, что
ты отнял все, чем на своем веку
владел я. Ибо созданное прочно,
продукт труда
есть пища вора и прообраз Рая,
верней – добыча времени: теряя
(пусть навсегда)
что-либо, ты
не смей кричать о преданной надежде:
то Времени, невидимые прежде,
в вещах черты
вдруг проступают, и теснится грудь
от старческих морщин; но этих линий -
их не разгладишь, тающих как иней,
коснись их чуть.
Благодарю...
Верней, ума последняя крупица
благодарит, что не дал прилепиться
к тем кущам, корпусам и словарю,
что ты не в масть
моим задаткам, комплексам и форам
зашел – и не предал их жалким формам
меня во власть.
___
Ты за утрату
горазд все это отомщеньем счесть,
моим приспособленьем к циферблату,
борьбой, слияньем с Временем – Бог весть!
Да полно, мне ль!
А если так – то с временем неблизким,
затем что чудится за каждым диском
в стене – туннель.
Ну что же, рой!
Рой глубже и, как вырванное с мясом,
шей сердцу страх пред грустною порой,
пред смертным часом.
Шей бездну мук,
старайся, перебарщивай в усердьи!
Но даже мысль о – как его! – бессмертьи
есть мысль об одиночестве, мой друг.
Вот эту фразу
хочу я прокричать и посмотреть
вперед – раз перспектива умереть
доступна глазу -
кто издали
откликнется? Последует ли эхо?
Иль ей и там не встретится помеха,
как на земли?
Ночная тишь...
Стучит башкой об стол, заснув, заочник.
Кирпичный будоражит позвоночник
печная мышь.
И за окном
толпа деревьев в деревянной раме,
как легкие на школьной диаграмме,
объята сном.
Все откололось...
И время. И судьба. И о судьбе...
Осталась только память о себе,
негромкий голос.
Она одна.
И то – как шлак перегоревший, гравий,
за счет каких-то писем, фотографий,
зеркал, окна, -
исподтишка...
и горько, что не вспомнить основного!
Как жаль, что нету в христианстве бога -
пускай божка -
воспоминаний, с пригоршней ключей
от старых комнат – идолища с ликом
старьевщика – для коротанья слишком
глухих ночей.
Ночная тишь.
Вороньи гнезда, как каверны в бронхах.
Отрепья дыма роются в обломках
больничных крыш.
Любая речь
безадресна, увы, об эту пору -
чем я сумел, друг-небожитель, спору
нет, пренебречь.
Страстная. Ночь.
И вкус во рту от жизни в этом мире,
как будто наследил в чужой квартире
и вышел прочь!
И мозг под током!
И там, на тридевятом этаже
горит окно. И, кажется, уже
не помню толком,
о чем с тобой
витийствовал – верней, с одной из кукол,
пересекающих полночный купол.
Теперь отбой,
и невдомек,
зачем так много черного на белом?
Гортань исходит грифелем и мелом,
и в ней – комок
не слов, не слез,
но странной мысли о победе снега -
отбросов света, падающих с неба, -
почти вопрос.
В мозгу горчит,
и за стеною в толщину страницы
вопит младенец, и в окне больницы
старик торчит.
Апрель. Страстная. Все идет к весне.
Но мир еще во льду и в белизне.
И взгляд младенца,
еще не начинавшего шагов,
не допускает таянья снегов.
Но и не деться
от той же мысли – задом наперед -
в больнице старику в начале года:
он видит снег и знает, что умрет
до таянья его, до ледохода.
март – апрель 1970 |
|