|

Обманывать себя — удел натур слабых (Маргарет Митчелл)
Проза
Все произведения Избранное - Серебро Избранное - ЗолотоК списку произведений
Глашатай | Глашатай вернулся к себе в каморку. После тяжелого трудового дня он устал как-то больше обычного. Приходилось отдавать много приказов и оглашать приговоры. И до конца контракта оставалось немного.
Присев возле стола, он сделал глоток воды из большой глиняной кружки. Уставился в одну точку и застыл без движения. Сейчас все его мысли занимал контракт. И зачем он только согласился тогда, почти три года назад, на такую договорённость. Ведь мог же жить спокойно, получать небольшое жалованье, и радоваться непыльной работе.
А что теперь?
Контракт подразумевал оглашение приговора и указание способа казни. Первое решал судья, а второе оставлялось на выбор глашатая. В этом и был смысл - он должен придумывать наказания для преступников, и озвучивать их палачу.
Он поднялся и сделал круг по комнате. За окном уже опустились сумерки, а заставить себя лечь спать он не мог, надо было придумать способ на завтра. Он вновь опустился на стул и уставился немигающим взглядом вглубь очага, где тлели догорающие головешки.
Контракт был каким-то странным, и работодатель тоже. Он появился ниоткуда, вошел в дверь и присел напротив. Без приветствия, без представления, он начал говорить. И пока его речь лилась тихим и бесцветным голосом, Глашатай рассматривал этого странного господина.
Неопределенного возраста, бледный, худощавый. Темные волосы с проседью зачесаны назад, узкий длинный нос бросал тень на гладко выбритый подбородок. Одет в черный камзол, подчеркивавший белизну идеально чистой сорочки. Тонкие пальцы были похожи на лапки паука, они находились в постоянном движении, касаясь друг друга и приковывая взгляд, не давая сосредоточиться ни на чем другом.
Контракт заключался на три года вперед. Казней в королевстве всегда было много, с населением не принято было считаться. Жестокость наказаний постоянно нарастала, чтобы отвадить крестьян от совершения любых злодеяний. Но толку было мало, голод заставлял людей рисковать своей шеей, чтобы добыть кусок хлеба или сыра.
В течение этих трех лет Глашатай должен будет придумывать способы осуществления казни, дабы народ видел всю серьезность правителей. И каждый день способ должен быть новым, неизведанным ранее.
А если случится такое, что новую казнь не удастся придумать, что ж. На плаху пойдёт сам Глашатай.
Тогда, почти три года назад, это казалось легко выполнимым обязательством. Фантазией он никогда не был обделён, а придумать тысячу способов насильственной смерти было не сложно. Тогда казалось именно так.
А теперь он сидел и пустым взглядом следил за потухшими углями в очаге, и понимал, что фантазия человеческая не безгранична.
Самые известные казни прошли в первые полтора года. Повешение, утопление, декапитация, забивание кнутом, повешение за ребро, четвертование, колесование, сожжение…
Дальше было сложнее. Приходилось включать воображение и напрягать голову, хотя это удавалось без особых хлопот.
Посажение на кол, на бамбук, смерть от тысячи порезов, медленное удушение высыхающей полоской кожи, поедание голодными собаками и крысами, отравление, перекармливание до разрыва желудка, утопление в раскаленном металле…
Палач с готовностью исполнял каждый новый приказ, и нередко выказывал своё почтение автору таких изощренных наказаний. Приготовления занимало иногда всю ночь, но к обеденному времени всегда были готовы.
За окном начинал брезжить рассвет, дни начинались всё раньше, а ночи становились короче. Так ли это было на самом деле, Глашатай не знал. Вероятно, ему так казалось, потому что он не спал уже которую ночь подряд, пытаясь придумать очередную казнь. Последние дни, под утро, ему удавалось как-то выкрутиться, но сегодня мысли не посещали его уставший разум. Скоро, скоро уже в дверь постучится палач, чтобы получить новые распоряжение и заняться подготовкой казни.
Все новые и новые картины появлялись в голове, но на поверку они оказывались уже прошлыми днями, слившимися в единый поток дней. Отрыв конечностей клещами, разрывание всего тела привязанными лошадьми, скармливание жертве клубка колючих и твердых древесных шипов…
Фантазия закончилась, или просто мозг его устал от постоянного напряжения и недосыпания. Теперь он сидел и бессмысленно ждал, когда раздастся стук в его дверь.
И этот момент пришел. Три коротких и тихих удара, показавшихся слишком громкими в царящей вокруг тишине. Но вместо палача на пороге стоял тот господин, в таком же виде, что и три года назад. Это означало, что Глашатай не справился с условиями договора, и теперь плаха ждет его самого.
Он теперь лихорадочно соображал, смог ли он придумать все возможные казни в мире, чтобы не осталось способа для него самого. В контракте так и значилось, если он за три года выполнит все мыслимые казни, то условия договора будут выполнены, а он сможет вернуться к нормальной жизни.
Гость, стоящий на порогах, жестом пригласил его следовать за ним.
Они шли по улице, в полном молчании, никто не проронил ни слова. Прохожих не было, то ли слишком рано, то ли все уже куда-то ушли.
Медленно двигаясь за гостем, Глашатай прокручивал в голове все возможные варианты, и ему казалось, что нет, не осталось ни одного способа казни, который еще можно совершить.
И только дойдя до городской площади, он всё понял. На высокой площадке эшафота палач проводил какие-то приготовления, доселе неизвестные никому.
Гость молча указал рукой в сторону лестницы. Глашатай медленной поступью двинулся вперёд. Он продолжал оттягивать время, чтобы успеть придумать еще какой-нибудь, хоть какой-то, способ казни. Страх смерти появился где-то в глубине, и продолжал расти, отвлекая от всех возможных мыслей. Что же это будет?
Глаза его лихорадочно оглядели пустой эшафот. Палач в маске с прорезанными глазами стоял посередине, и ждал жертву, держа в руках небольшой пустой мешок из грубой ткани.
Глашатай приближался. Воздуха в груди уже не хватало, дыхание стало частым, сбивчивым, а сердце готово было выскочить из груди. Но он понимал, что смерть неизбежна. А самым пугающим было то, что он не знал, КАК ИМЕННО она придёт.
Палач сделал шаг вперед и легким движением набросил мешок на голову несчастного. Связал ему руки за спиной, усадил на колени.
Тянулись минуты томительного ожидание. Толпа вокруг не издавала ни звука, где-то вдалеке раздавался лай дворняги. Жертве показалось, что высоко в небе раздался крик стервятника. Терпеть такое тягостное молчание было уже невозможно.
Сердце колотилось, как безумное. Он повидал столько смертей, но сейчас сам стоял на грани, и не мог предположить, чего ему ожидать. Сколько еще будет тянуться эта пытка?
Дыхание становилось еще быстрее. Мешковина плохо пропускала воздух, он сделался горячим и влажным, по лицу побежали струйки пота.
Страх подкрадывался все ближе, разум уже не выдерживал, и в какой-то неуловимый момент стало вдруг невыносимо больно, но через секунду уже всё закончилось.
Тело, стоящее на коленях, со связанными руками и мешком на голове, беззвучно повалилось на бок. Палач наклонился, и убедившись, что жертва отошла в мир иной, коротко кивнул неизвестному господину. Тот развернулся и отправился прочь с площади.
Среди толпы поднялся шепот, люди тоже гадали, что же случилось. Только стоящая рядом с мамой маленькая девочка потянула её за рукав и спросила: «Мама, а дядя что, умер от страха?» | |
| Автор: | HEADfield | | Опубликовано: | 07.02.2016 21:25 | | Просмотров: | 3136 | | Рейтинг: | 0 | | Комментариев: | 0 | | Добавили в Избранное: | 0 |
Ваши комментарииЧтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться |
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!
Кобаяси Исса

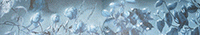
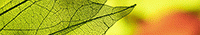
 Авторизация Авторизация Камертон Камертон
Здесь, на земле,
где я впадал то в истовость, то в ересь,
где жил, в чужих воспоминаньях греясь,
как мышь в золе,
где хуже мыши
глодал петит родного словаря,
тебе чужого, где, благодаря
тебе, я на себя взираю свыше,
уже ни в ком
не видя места, коего глаголом
коснуться мог бы, не владея горлом,
давясь кивком
звонкоголосой падали, слюной
кропя уста взамен кастальской влаги,
кренясь Пизанской башнею к бумаге
во тьме ночной,
тебе твой дар
я возвращаю – не зарыл, не пропил;
и, если бы душа имела профиль,
ты б увидал,
что и она
всего лишь слепок с горестного дара,
что более ничем не обладала,
что вместе с ним к тебе обращена.
Не стану жечь
тебя глаголом, исповедью, просьбой,
проклятыми вопросами – той оспой,
которой речь
почти с пелен
заражена – кто знает? – не тобой ли;
надежным, то есть, образом от боли
ты удален.
Не стану ждать
твоих ответов, Ангел, поелику
столь плохо представляемому лику,
как твой, под стать,
должно быть, лишь
молчанье – столь просторное, что эха
в нем не сподобятся ни всплески смеха,
ни вопль: «Услышь!»
Вот это мне
и блазнит слух, привыкший к разнобою,
и облегчает разговор с тобою
наедине.
В Ковчег птенец,
не возвратившись, доказует то, что
вся вера есть не более, чем почта
в один конец.
Смотри ж, как, наг
и сир, жлоблюсь о Господе, и это
одно тебя избавит от ответа.
Но это – подтверждение и знак,
что в нищете
влачащий дни не устрашится кражи,
что я кладу на мысль о камуфляже.
Там, на кресте,
не возоплю: «Почто меня оставил?!»
Не превращу себя в благую весть!
Поскольку боль – не нарушенье правил:
страданье есть
способность тел,
и человек есть испытатель боли.
Но то ли свой ему неведом, то ли
ее предел.
___
Здесь, на земле,
все горы – но в значении их узком -
кончаются не пиками, но спуском
в кромешной мгле,
и, сжав уста,
стигматы завернув свои в дерюгу,
идешь на вещи по второму кругу,
сойдя с креста.
Здесь, на земле,
от нежности до умоисступленья
все формы жизни есть приспособленье.
И в том числе
взгляд в потолок
и жажда слиться с Богом, как с пейзажем,
в котором нас разыскивает, скажем,
один стрелок.
Как на сопле,
все виснет на крюках своих вопросов,
как вор трамвайный, бард или философ -
здесь, на земле,
из всех углов
несет, как рыбой, с одесной и с левой
слиянием с природой или с девой
и башней слов!
Дух-исцелитель!
Я из бездонных мозеровских блюд
так нахлебался варева минут
и римских литер,
что в жадный слух,
который прежде не был привередлив,
не входят щебет или шум деревьев -
я нынче глух.
О нет, не помощь
зову твою, означенная высь!
Тех нет объятий, чтоб не разошлись
как стрелки в полночь.
Не жгу свечи,
когда, разжав железные объятья,
будильники, завернутые в платья,
гремят в ночи!
И в этой башне,
в правнучке вавилонской, в башне слов,
все время недостроенной, ты кров
найти не дашь мне!
Такая тишь
там, наверху, встречает златоротца,
что, на чердак карабкаясь, летишь
на дно колодца.
Там, наверху -
услышь одно: благодарю за то, что
ты отнял все, чем на своем веку
владел я. Ибо созданное прочно,
продукт труда
есть пища вора и прообраз Рая,
верней – добыча времени: теряя
(пусть навсегда)
что-либо, ты
не смей кричать о преданной надежде:
то Времени, невидимые прежде,
в вещах черты
вдруг проступают, и теснится грудь
от старческих морщин; но этих линий -
их не разгладишь, тающих как иней,
коснись их чуть.
Благодарю...
Верней, ума последняя крупица
благодарит, что не дал прилепиться
к тем кущам, корпусам и словарю,
что ты не в масть
моим задаткам, комплексам и форам
зашел – и не предал их жалким формам
меня во власть.
___
Ты за утрату
горазд все это отомщеньем счесть,
моим приспособленьем к циферблату,
борьбой, слияньем с Временем – Бог весть!
Да полно, мне ль!
А если так – то с временем неблизким,
затем что чудится за каждым диском
в стене – туннель.
Ну что же, рой!
Рой глубже и, как вырванное с мясом,
шей сердцу страх пред грустною порой,
пред смертным часом.
Шей бездну мук,
старайся, перебарщивай в усердьи!
Но даже мысль о – как его! – бессмертьи
есть мысль об одиночестве, мой друг.
Вот эту фразу
хочу я прокричать и посмотреть
вперед – раз перспектива умереть
доступна глазу -
кто издали
откликнется? Последует ли эхо?
Иль ей и там не встретится помеха,
как на земли?
Ночная тишь...
Стучит башкой об стол, заснув, заочник.
Кирпичный будоражит позвоночник
печная мышь.
И за окном
толпа деревьев в деревянной раме,
как легкие на школьной диаграмме,
объята сном.
Все откололось...
И время. И судьба. И о судьбе...
Осталась только память о себе,
негромкий голос.
Она одна.
И то – как шлак перегоревший, гравий,
за счет каких-то писем, фотографий,
зеркал, окна, -
исподтишка...
и горько, что не вспомнить основного!
Как жаль, что нету в христианстве бога -
пускай божка -
воспоминаний, с пригоршней ключей
от старых комнат – идолища с ликом
старьевщика – для коротанья слишком
глухих ночей.
Ночная тишь.
Вороньи гнезда, как каверны в бронхах.
Отрепья дыма роются в обломках
больничных крыш.
Любая речь
безадресна, увы, об эту пору -
чем я сумел, друг-небожитель, спору
нет, пренебречь.
Страстная. Ночь.
И вкус во рту от жизни в этом мире,
как будто наследил в чужой квартире
и вышел прочь!
И мозг под током!
И там, на тридевятом этаже
горит окно. И, кажется, уже
не помню толком,
о чем с тобой
витийствовал – верней, с одной из кукол,
пересекающих полночный купол.
Теперь отбой,
и невдомек,
зачем так много черного на белом?
Гортань исходит грифелем и мелом,
и в ней – комок
не слов, не слез,
но странной мысли о победе снега -
отбросов света, падающих с неба, -
почти вопрос.
В мозгу горчит,
и за стеною в толщину страницы
вопит младенец, и в окне больницы
старик торчит.
Апрель. Страстная. Все идет к весне.
Но мир еще во льду и в белизне.
И взгляд младенца,
еще не начинавшего шагов,
не допускает таянья снегов.
Но и не деться
от той же мысли – задом наперед -
в больнице старику в начале года:
он видит снег и знает, что умрет
до таянья его, до ледохода.
март – апрель 1970 |
|




