|

Чем дальше идешь, тем меньше познаешь (Лао-Цзы)
Проза
Все произведения Избранное - Серебро Избранное - ЗолотоК списку произведений
| из цикла "Дом на Меже" | Дом на Меже. Часть четвёртая. Солнцеворот. Глава 19 | 19. Банька
Вино, мясо, новости. Дикторы и бляди на экране допотопного телика – круглосуточным фоном. Во дворе каждый день топящаяся банька.
Бесконечная туса в доме: кто у кого родился, женился и помер, кому с кем бизнес мутить. Припоздавшие Межичи обнимаются на пороге. Амбре жареного и креплёного, сухого красного. Запах ожидания главного торжества.
Сильван Межич, основоположник рода, своими руками построил этот дом. Затем, чтобы в нём свадьбу сыграть.
До солнцеворота – мужской праздник, после – женский, главный. Жёны и дочери приезжают наутро. К тому времени с делами будет покончено, мужчины обговорят, что хотели. Представлю, сколько тогда прольётся вина и задымится мяса! Ну, хоть стол разбавят салатами и тортами. Пока нет, опять жаркое с картошкой.
Обед в тесноте, локтем к локтю.
Я знаю, чего Слава Румын ждёт… Что я отодвину тарелку, не кладя ножа, повернусь к нему и скажу: вы меня убили. Ведь это вы?
Я знаю, на что Слава Румын надеется… Что я с пустыми руками обернусь и скажу: вы не зря, вы правильно меня убили.
Ничего не дождётся.
– Сегодня в баньку? Наша очередь, – утвердительно бросает Слава Румын.
Упс, это раскалённое парное чистилище я так и не полюбил. Мягко говоря. А все прутся с него.
---------------------
Банька снаружи не маленькая, а изнутри сумрак и теснота. Полок справа и слева. Окно – кошке пролезть, на уровне пояса. Котёл такого размера, что взрослый человек может спрятаться и крышкой накрыться. Кипяток бурлит ключом. С длинными ручками ковши. В бадейке настаиваются можжевеловые ветки. Жар каменки, тёмные бревенчатые стены.
Ковшик из бадейки – на каменку. Шипение. Пар.
---------------------
Единственное желание – распластаться на полу и дышать. Я сижу, смотрю в бело-красное тело, занявшее всё пространство. Банька точно костюм по нему кроеный, головой Слава Румын чуть не касается потолка. Ха, одной арматурой в его жизни дело не обошлось. Шрам поперёк голени, переходит на другую. Ноги переломать хотели? Такому не вдруг переломаешь.
Жааар… Что со мной будет, если я по живой луне опять умру? Вопрос, который поднимался и раньше, но здесь встал в полный рост.
Когда Слава Румын садится между мной и печкой, на минуту я совершенно счастлив.
– Уф, с того дня, как приехал, всё один и треплю языком… Твоя очередь. Рассказывай, Межка. Что ты делал по мёртвой луне? Как тебе город почти без людей?
Слово за слово, мяч опять летит к нему, я спрашиваю:
– А как живётся покойным бабкам у магазина? Их кормят только на радуницу? Что с обычными мертвецами происходит? Не вечно же им так сидеть.
– Нет, разумеется, – говорит он. – Сам подумай: накопленное ими добро уносят чужие люди. Им не отвечают свои. Плачут о них или ругают, всё неприятно. Мёртвые уходят из дома. Сначала туда, где их помнят, затем туда, где сами при жизни бывали… А кто их там ждёт? Да никто. Надежда изнашивается, горечь растёт. Они становятся злобными. Все мертвецы злые, Межка. Они глохнут, слепнут, обезличиваются понемногу. Кроме тех, про кого не забыли. Без цели, без памяти они бродят мимо и насквозь людей. И люди чувствуют: смерть всегда рядом. Ты смотрел обычным людям в глаза? Что ты там видел? «Я хороший, спасите меня…» Не лукавь, Межка, это и видел. Жалкий взгляд ни о чём. Пойми... Да признай ты уже, что мы – другой масти, другой! Ну? По глазам вижу. Козырной!
Я хмыкаю и помираю от жара. В глазах у меня, боюсь, именно то, что у всех – «спасите, помогите».
Слава Румын цедит, уставившись в потолок:
– Не. Из. Них. Кованая цепь Межичей идёт без разрыва отсюда и до Сильвана. Вспоминай, родовое древо Севка тебе показывал?
Да, показывал. Но я вспоминаю Агнешку. Вспоминаю зверя в доме Катрины Межич.
Слава Румын зачерпывает из бадейки и плещет на каменку. Пшшш…
---------------------
– Ты интересовался, Межка, за что я огрёб? Пожалуй, отвечу. За то, что расслабляться не надо. Клювом щёлкать, спиной поворачиваться. Цепляться за вещи тоже не надо. Если это конечно не финка! – смеётся. – Тогда крепче держи! Хорошоо…
Слава Румын откидывает голову, прикрывает глаза и тащится от жааара…
– А то, про что ты спрашивал, за это не… Вру, за это огрёб, но не я! Потому, что клювом щёлкать… да, да! Межка, поверь: на самые лютые фортели жизнь благодушно посмеивается. Нет никакого возмездия! А лупит рандомно в мещанскую закабаневшую харю: наотмашь н-на! Когда ты ей наскучил. Поэтому живи веселей! У вас тут девочек не?.. Посмуглее?.. Н-да, какие тут девочки, а вот у нас… Попалась, было, негритянка в клубе. Ммм, возле клуба. Слушай, первый раз – и с полным смаком! Мне уже за двадцать было, но с чёрной как-то раньше никогда! Самое забавное: я же не знал, что там – негритянка, под меховой этой с ушами…
– Кигуруми?
– Оно, и бегает быстро как заяц! Выпускной тогда был. Парни тоже решили, что дунька какая-нибудь из местных, десятиклассница. Ан, нет! Кое-что поинтересней…
Моё тело начинает гореть, как у барона. Как у зверя. Я тоже прикрываю глаза, но всё равно вижу Славу Румына, и ещё негритянку между нами. У неё влажные глаза с яркими до голубизны белками. Плюшевое, белое кигуруми-зайка. Свисающее ушко. Молния трактор ползёт вниз: тр-ррр… Извивающееся шоколадное тело.
Слава Румын потягивается… Жилистые волосатые ноги, лиловый шрам. Подмигивая, он указывает на своё колено:
– Талия у неё была… не толще моей ноги! А бёдра – как чёрная бабочка.
Духота, жааар... Он делает меня соучастником. Так запросто, не сходя с места.
– Не лукавь, – повторяет Слава Румын, – только не со мной! Я вижу тебя насквозь, а ты ещё жизни не знаешь: ей понравилось! Баба, что? – щерясь, разводит ладони. – Женское тело: кусок мяса. Хочешь? Бери. А уж если оно понадобилось роду, не о чем и говорить! А вот ещё была…
Ковш на каменку. Мозг плавится, сдаёт.
---------------------
Он прав. Я то же самое знаю. По себе знаю эту кровь Межичей, и Славы Румына, и Мстислава и зверя, Агнешки отца. Его похоть, её ужас я знаю, как вижу. Я сейчас второй раз умру. Хоть бы окончательно, хоть бы насовсем.
Темнота, раскалённый пар, запах мыла из костей, смолы, берёзового дыма. Широкий полок, мутные глаза, бахвальство с ленцой, с назиданием: не будь бабой, мужиком будь. Во всю длину раскинувшееся тело, вены на шее, пот на волосатой груди. Смешение мужских запахов с запахом пытки. Это всё – я сам. Я пытаю. Я не ухожу. Слава Румын, цокая, показывает на себе чьи-то буфера и пальцами щёлкает в полуметре от груди. Жааар… Так мерзко, так хочется, и я весь как на ладони. Здесь ад на одного. Котёл выкипел, теперь я горю в нём. Обугливаясь, ужас исходит жаждой. Он пузырится, источает сладкую, солёную гниль, как рана сукровицу. Впивается губами и слизывает. В кишках горит, корчится и закипает опять, извращаясь до непереносимой, запредельной степени.
Дальше не помню.
Слава Румын политик, он знает: во власти скромничать – это лишнее. Больше кнутов, больше пряников! Чтобы помнили милость. Его руками – пар на каменку, из его рук – много, много холодной воды. | |
Ваши комментарииЧтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться |
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!
Кобаяси Исса

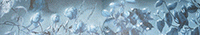
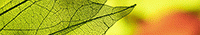
 Авторизация Авторизация Камертон Камертон
Михаилу Николаеву
Председатель Совнаркома, Наркомпроса, Мининдела!
Эта местность мне знакома, как окраина Китая!
Эта личность мне знакома! Знак допроса вместо тела.
Многоточие шинели. Вместо мозга - запятая.
Вместо горла - темный вечер. Вместо буркал - знак деленья.
Вот и вышел человечек, представитель населенья.
Вот и вышел гражданин,
достающий из штанин.
"А почем та радиола?"
"Кто такой Савонарола?"
"Вероятно, сокращенье".
"Где сортир, прошу прощенья?"
Входит Пушкин в летном шлеме, в тонких пальцах - папироса.
В чистом поле мчится скорый с одиноким пассажиром.
И нарезанные косо, как полтавская, колеса
с выковыренным под Гдовом пальцем стрелочника жиром
оживляют скатерть снега, полустанки и развилки
обдавая содержимым опрокинутой бутылки.
Прячась в логово свое
волки воют "E-мое".
"Жизнь - она как лотерея".
"Вышла замуж за еврея".
"Довели страну до ручки".
"Дай червонец до получки".
Входит Гоголь в бескозырке, рядом с ним - меццо-сопрано.
В продуктовом - кот наплакал; бродят крысы, бакалея.
Пряча твердый рог в каракуль, некто в брюках из барана
превращается в тирана на трибуне мавзолея.
Говорят лихие люди, что внутри, разочарован
под конец, как фиш на блюде, труп лежит нафарширован.
Хорошо, утратив речь,
Встать с винтовкой гроб стеречь.
"Не смотри в глаза мне, дева:
все равно пойдешь налево".
"У попа была собака".
"Оба умерли от рака".
Входит Лев Толстой в пижаме, всюду - Ясная Поляна.
(Бродят парубки с ножами, пахнет шипром с комсомолом.)
Он - предшественник Тарзана: самописка - как лиана,
взад-вперед летают ядра над французским частоколом.
Се - великий сын России, хоть и правящего класса!
Муж, чьи правнуки босые тоже редко видят мясо.
Чудо-юдо: нежный граф
Превратился в книжный шкаф!
"Приучил ее к минету".
"Что за шум, а драки нету?"
"Крыл последними словами".
"Кто последний? Я за вами".
Входит пара Александров под конвоем Николаши.
Говорят "Какая лажа" или "Сладкое повидло".
По Европе бродят нары в тщетных поисках параши,
натыкаясь повсеместно на застенчивое быдло.
Размышляя о причале, по волнам плывет "Аврора",
чтобы выпалить в начале непрерывного террора.
Ой ты, участь корабля:
скажешь "пли!" - ответят "бля!"
"Сочетался с нею браком".
"Все равно поставлю раком".
"Эх, Цусима-Хиросима!
Жить совсем невыносимо".
Входят Герцен с Огаревым, воробьи щебечут в рощах.
Что звучит в момент обхвата как наречие чужбины.
Лучший вид на этот город - если сесть в бомбардировщик.
Глянь - набрякшие, как вата из нескромныя ложбины,
размножаясь без резона, тучи льнут к архитектуре.
Кремль маячит, точно зона; говорят, в миниатюре.
Ветер свищет. Выпь кричит.
Дятел ворону стучит.
"Говорят, открылся Пленум".
"Врезал ей меж глаз поленом".
"Над арабской мирной хатой
гордо реет жид пархатый".
Входит Сталин с Джугашвили, между ними вышла ссора.
Быстро целятся друг в друга, нажимают на собачку,
и дымящаяся трубка... Так, по мысли режиссера,
и погиб Отец Народов, в день выкуривавший пачку.
И стоят хребты Кавказа как в почетном карауле.
Из коричневого глаза бьет ключом Напареули.
Друг-кунак вонзает клык
в недоеденный шашлык.
"Ты смотрел Дерсу Узала?"
"Я тебе не все сказала".
"Раз чучмек, то верит в Будду".
"Сукой будешь?" "Сукой буду".
Входит с криком Заграница, с запрещенным полушарьем
и с торчащим из кармана горизонтом, что опошлен.
Обзывает Ермолая Фредериком или Шарлем,
Придирается к закону, кипятится из-за пошлин,
восклицая: "Как живете!" И смущают глянцем плоти
Рафаэль с Буанаротти - ни черта на обороте.
Пролетарии всех стран
Маршируют в ресторан.
"В этих шкарах ты как янки".
"Я сломал ее по пьянке".
"Был всю жизнь простым рабочим".
"Между прочим, все мы дрочим".
Входят Мысли О Грядущем, в гимнастерках цвета хаки.
Вносят атомную бомбу с баллистическим снарядом.
Они пляшут и танцуют: "Мы вояки-забияки!
Русский с немцем лягут рядом; например, под Сталинградом".
И, как вдовые Матрены, глухо воют циклотроны.
В Министерстве Обороны громко каркают вороны.
Входишь в спальню - вот те на:
на подушке - ордена.
"Где яйцо, там - сковородка".
"Говорят, что скоро водка
снова будет по рублю".
"Мам, я папу не люблю".
Входит некто православный, говорит: "Теперь я - главный.
У меня в душе Жар-птица и тоска по государю.
Скоро Игорь воротится насладиться Ярославной.
Дайте мне перекреститься, а не то - в лицо ударю.
Хуже порчи и лишая - мыслей западных зараза.
Пой, гармошка, заглушая саксофон - исчадье джаза".
И лобзают образа
с плачем жертвы обреза...
"Мне - бифштекс по-режиссерски".
"Бурлаки в Североморске
тянут крейсер бечевой,
исхудав от лучевой".
Входят Мысли О Минувшем, все одеты как попало,
с предпочтеньем к чернобурым. На классической латыни
и вполголоса по-русски произносят: "Все пропало,
а) фокстрот под абажуром, черно-белые святыни;
б) икра, севрюга, жито; в) красавицыны бели.
Но - не хватит алфавита. И младенец в колыбели,
слыша "баюшки-баю",
отвечает: "мать твою!"".
"Влез рукой в шахну, знакомясь".
"Подмахну - и в Сочи". "Помесь
лейкоцита с антрацитом
называется Коцитом".
Входят строем пионеры, кто - с моделью из фанеры,
кто - с написанным вручную содержательным доносом.
С того света, как химеры, палачи-пенсионеры
одобрительно кивают им, задорным и курносым,
что врубают "Русский бальный" и вбегают в избу к тяте
выгнать тятю из двуспальной, где их сделали, кровати.
Что попишешь? Молодежь.
Не задушишь, не убьешь.
"Харкнул в суп, чтоб скрыть досаду".
"Я с ним рядом срать не сяду".
"А моя, как та мадонна,
не желает без гондона".
Входит Лебедь с Отраженьем в круглом зеркале, в котором
взвод берез идет вприсядку, первой скрипке корча рожи.
Пылкий мэтр с воображеньем, распаленным гренадером,
только робкого десятку, рвет когтями бархат ложи.
Дождь идет. Собака лает. Свесясь с печки, дрянь косая
с голым задом донимает инвалида, гвоздь кусая:
"Инвалид, а инвалид.
У меня внутри болит".
"Ляжем в гроб, хоть час не пробил!"
"Это - сука или кобель?"
"Склока следствия с причиной
прекращается с кончиной".
Входит Мусор с криком: "Хватит!" Прокурор скулу квадратит.
Дверь в пещеру гражданина не нуждается в "сезаме".
То ли правнук, то ли прадед в рудных недрах тачку катит,
обливаясь щедрым недрам в масть кристальными слезами.
И за смертною чертою, лунным блеском залитою,
челюсть с фиксой золотою блещет вечной мерзлотою.
Знать, надолго хватит жил
тех, кто головы сложил.
"Хата есть, да лень тащиться".
"Я не блядь, а крановщица".
"Жизнь возникла как привычка
раньше куры и яичка".
Мы заполнили всю сцену! Остается влезть на стену!
Взвиться соколом под купол! Сократиться в аскарида!
Либо всем, включая кукол, языком взбивая пену,
хором вдруг совокупиться, чтобы вывести гибрида.
Бо, пространство экономя, как отлиться в форму массе,
кроме кладбища и кроме черной очереди к кассе?
Эх, даешь простор степной
без реакции цепной!
"Дайте срок без приговора!"
"Кто кричит: "Держите вора!"?"
"Рисовала член в тетради".
"Отпустите, Христа ради".
Входит Вечер в Настоящем, дом у чорта на куличках.
Скатерть спорит с занавеской в смысле внешнего убранства.
Исключив сердцебиенье - этот лепет я в кавычках -
ощущенье, будто вычтен Лобачевским из пространства.
Ропот листьев цвета денег, комариный ровный зуммер.
Глаз не в силах увеличить шесть-на-девять тех, кто умер,
кто пророс густой травой.
Впрочем, это не впервой.
"От любви бывают дети.
Ты теперь один на свете.
Помнишь песню, что, бывало,
я в потемках напевала?
Это - кошка, это - мышка.
Это - лагерь, это - вышка.
Это - время тихой сапой
убивает маму с папой". |
|




