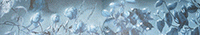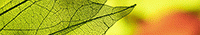|
|
Сегодня
21 декабря 2025 г.
|
Образованный человек тем и отличается от необразованного, что продолжает считать свое образование незаконченным (Константин Симонов)
Публицистика
Все произведения Избранное - Серебро Избранное - ЗолотоК списку произведений
| из цикла ""Путевые заметки"" | Австрийская баллада. Часть 15 | День семнадцатый, 10 июля. Вена.
Наконец-то выспались. Торопиться некуда - час до Вены. Машину сдали ровно в 12.00, как и договаривались. Напоследок взглянули на пробег: 2236 километров.
На экскурсию идти не хотелось, все-таки семнадцатый день в пути. Однако Валентиныч уговорил, и вот в два часа мы снова встречаемся с Анной, которая - так давно! - помогла нам взять напрокат машину.
Начали с центра, с собора Святого Штефана. Это самый большой в Австрии собор. Построен в двенадцатом веке, но от того века остались только ворота. Все остальное было достроено позже: 14, 15 и даже 16 века. Вокруг ворот на стенах расположены фигуры львов, которые отпугивают от собора злых духов. Однако по их фигурам видно, что скульптор живых львов никогда не видел, а лепил с чужих слов. В маленькой нише сидит ирландский судья, вытаскивающий занозу из пятки. Почему именно судья, именно ирландский и именно с занозой?
Дело в том, что ирландцы были на тот момент наиболее образованными людьми, поэтому часто занимали высокие должности, например, судейские. А заноза неудивительна для Вены двенадцатого века, поскольку на мостовые клали необструганные доски. Фигура судьи обнесена сеточкой, так как полуразрушена. Собственно, той ноги, из пятки которой он извлекает занозу, уже нет.
Слева от ворот на стене выбит круг - мера хлеба, и вмонтирован металлический прут - мера ткани. Если человека обманули на рынке, куда идти, как не к собору? Если обвешенный жаловался судье и указывал пальцем на обидчика, того закрывали в деревянной клетке и бросали в Дунай, благо до реки недалеко. Клетка, правда, деревянная, и из нее при большом желании можно было выбраться, но на этот случай стояло два десятка виселиц. Вообще, в средневековой Вене публичные пытки и казни были обычным зрелищем.
Собор светлый, в нем никогда не отпевали. Для отпевания рядом была построена особая капелла. Еще одна капелла находится под площадью. О ней мало что известно: кто ее построил, когда и почему под землей - до сих пор загадка. Известно только, что ее сразу строили под землей - в ней нет окон и дверей, неясно даже, как в нее попадали.
Уличное покрытие перед собором выше, чем везде на площади: раньше здесь было кладбище. Но захоронений оказалось слишком много, вода размывала могилы, и приходилось ходить буквально по костям, да и запах стоял соответствующий, поэтому кладбище сровняли с землей, после чего эта часть площади приподнялась.
На улицах много собак. Их в Вене очень любят, есть собачьи психологи, собачьи школы, парикмахерские и магазины. Но собака должна быть зарегистрирована и иметь медаль "Городская собака", за содержание животного нужно платить налог в сумме 70 евро в год. Хозяев собак, не имеющих медали, штрафуют. За неубранные продукты жизнедеятельности тоже приходится выкладывать по 36 евро. Зато уж если хозяин в этом отношении законопослушен, отношение к собакам самое замечательное.
Мы давно заметили на улицах австрийских городов питьевые фонтанчики. Вода в водопровод поступает с ледников, причем по специальным трубам, внутренняя обкладка которых не позволяет воде загрязняться.
Однако чисто в Вене было не всегда. Мы идем по улице Грабен. В переводе ее название означает "ров". Грязный, вонючий ров, вырытый еще при римлянах. Позже ров был засыпан, но вода стояла близко и подпитывала почву, поэтому в средние века Грабен был самой загаженной, да вдобавок и самой криминальной улицей, где обитали и "работали" любители легкой поживы и так называемые "грабенские нимфы". Позже богатые горожане построили здесь доходные дома. Им пришлось на свои деньги осушить и осветить улицу. Они же построили первый, самый старый в городе общественный туалет, тот самый, в котором мы побывали в день прибытия.
На Грабене стоит богато украшенная Чумная колонна. Это памятник не чуме, как иногда думают, а избавлению города от чумы. В семнадцатом веке от этой болезни вымерло 2/3 города - 200 тысяч человек.
Надо заметить, что антисанитария в средние века была обычным явлением. Люди не мылись, так как главы церкви считали, что через общественные купальни распространяется сифилис. В принципе, он действительно распространялся, поскольку купальни были общими, грех порой случался, да и бытовой способ передачи никто не отменял. Однако священники решили, что источником болезни служит именно мытье и объявили его грехом.
Паразиты считались "жемчугом господа". Монахи соревновались, у кого больше "жемчуга". Дамы носили меховые горжетки и специальные меховые сумочки, которые висели на длинном шнурке на уровне колена, не столько для красоты, сколько для улавливания вшей и блох, которые, кстати, и есть истинные распространители чумы. Потом эти меха сжигались. Поэтому, кстати, в музеях практически нет подобных предметов, они только изображены на картинах.
Чумная колонна была построена на деньги и по заказу горожан. Сначала она была деревянной, но дерево начало разрушаться, поэтому решили поставить каменную. Кого надо было увековечить на колонне? Врача? Но врачи в средние века могли только пускать кровь и ставить пиявок, вылечить чуму им было не под силу. Поэтому горожанам оставалось только молиться. И, согласно легенде, молитвы те были услышаны: с неба на землю спустилась Богородица. В нижней части колонны изображена фигура Богородицы и ангела с факелом, которые вместе прогоняют чуму в чистилище. Мастер, которому заказали эту скульптурную группу, первый раз выполнял работу такого рода, поэтому хорошо видны огрехи: пламя факела бьет вниз, и его часто принимают за кисть или за метелку, волосы Чумы тоже направлены вниз, хотя она падает. Чума вроде бы женского пола, но у нее женская грудь и при этом совершенно мужские мускулистые ноги.
Колонна, да и все остальные памятники в городе обнесены специальной сеткой от голубей. Это самые злостные враги архитектуры, поэтому штраф за их кормление 36 евро. Но и убивать их нельзя, за это тоже нужно будет поплатиться 32 евро.
Кольмаркт - самая богатая улица Вены. Стоим рядом с самым дорогим магазином на ней. Вспоминаем, что именно в этом магазине в первый день нас угораздило купить что-то съестное. Анна рассказывает, что его хозяин заигрался на рынке ценных бумаг и был пойман, просидел целых три дня в сизо. Потом это ему надоело, и он выплатил рекордный выкуп в 183 миллиона евро. Теперь у него как бы ничего нет: газеты публиковали, что на его счету имеется 43 евро с копейками. Все остальное: яхты, виллы - записано на жену, с которой они в разводе, но живут под одной крышей. Жена объясняет это следующим образом: как я могу выкинуть на улицу отца моего единственного сына?
Стоим перед кондитерской "Demel". На самом деле это городской дворец, обитавшее в котором семейство сдавало часть помещений кондитеру. Здесь до сих пор здесь готовят по старинным рецептам. Неделю назад в подвальном помещении кондитерской открыли музей, на презентации которого была Анна. Лицензированные гиды могут бесплатно водить в этот музей небольшие экскурсии, и конечно, мы этим воспользовались.
В музее, а также в витрине кондитерской, выставлены фигурки из смеси яичного белка, сахара, глюкозы и пищевых красителей. Знаменитые люди, сцены быта, многоэтажные свадебные торты. Новые фигуры в витринах появляются довольно часто, например, если в город приезжает известное лицо, а старые попадают в музей.
Официанткам Демеля всегда принадлежала привилегия разносить сладости и мороженое в ложах венской Оперы. На фотографиях видим их форму, которая говорит о монастырской школе - черное глухое платье с белым воротничком и белый передник. Привилегия существует по сей день, только официантки являются выпускницами школы туризма.
В одной из витрин пончики на специальной палочке, на верхушке которой деревянная голова. Детей еще спрашивали, какую именно голову они хотят видеть поверх своих пончиков. В другой - вышитые, ручной работы коробочки для конфет, специальные мешочки для записок, в которых указано, с кем и в какой последовательности дама танцует на балу.
Поднимаемся обратно в кондитерскую. Теперь хорошо виден кухонный зал за стеклом, в котором работают мастера. Благодаря стеклу у покупателей не остается сомнений, что они приобретают изделия ручной работы. Анна показывает нам засахаренные лепестки фиалки - один из фирменных товаров этого магазина. Фиалка - любимый цветок Элизабет (Сисси). Демель когда-то придумал это угощение для императрицы. Стоит дорого, но одной бонбоньерки хватает на несколько месяцев. Несколько лепестков добавляют в выпечку или в бокал шампанского.
На Михаэляплац видим руины. Многие думают, что это остатки только римских построек, однако на самом деле это культурные слои, от римлян и до городской канализации девятнадцатого века. Их открыли, когда в 80-е годы меняли уличное покрытие. Один из рабочих провалился в пустоту и сломал ногу. Далее встал вопрос, раскапывать ли все - но для этого нужно перекрыть движение в центре - или оставить для обозрения часть раскопок. Остановились на втором варианте, поэтому ныне открыт только небольшой фрагмент "исторического винегрета".
Подходим к императорскому дворцу Габсбургов - Хобургу, который состоит из 18 зданий, в которых имеется больше двух с половиной тысяч комнат.
Сразу за аркой-проездом главного фасада вход в испанскую школу верховой езды. Ну, лошадь она лошадь и есть, пусть даже и выезженная, однако здесь Анна рассказывает нам нечто такое, от чего рот у россиянина открывается и не скоро закрывается.
В школе живут 75 липицианских лошадей, элита породы. Это единственная порода, в которой жеребята рождаются вороными или гнедыми, а через пять-шесть лет становятся снежно-белыми (коневоды говорят: светло-серыми) при черной коже. Они имеют статус государственных служащих, зарплату, пенсию, отпуск в 40 рабочих дней, который они проводят на альпийских лугах Штирии, и еще два отпуска в году для воспроизводства. Их обучение предполагает самые сложные фигуры выездки, а также могут танцевать венские вальсы, отчего их часто называют танцующими лошадьми.
Напротив школы расположены музей Сисси, а также музей серебра и фарфора, который набит посудой. Как и в любом другом месте, чтобы было интересно, нужно знать детали. Например, в музее есть вроде бы золотые тарелки, но местами металл протерся, и из-под него выглядывает фарфор. Приказ на изготовление таких тарелок отдавался, когда императору нужно было принимать в гостях другого монарха, а золота в казне не было.
Идем дальше. Канцелярия Президента австрийской республики. Сам президент живет недалеко и на работу ходит пешком, никаких мигалок и перекрытых улиц. Правда, недавно улицу все-таки перекрывали. Поднялась "волна народного гнева", потому что люди на полчаса опоздали на работу, а работодателям совсем неинтересно, из-за чего.
На последнем этаже здания имеются квартиры, участвующие в проекте "Жизнь без больницы". Их занимают люди, слишком здоровые, чтобы жить в психиатрической больнице, и слишком больные, чтобы интегрироваться в социуме. Например, в прошлом году одна из живущих здесь женщин разорвала в обширном внутреннем дворе несколько подушек. Вроде бы, поступок неадекватный, но, с другой стороны, никто не пострадал. В другой квартире живет бабушка, которая держит слишком много кошек. Чтобы кошка не упала на мостовую и не сломала лапу, бабушке разрешили на окне исторического здания установить сетку. Время от времени у бабушки наступает ухудшение, и она недели две-три подлечивается. За это время кошки исчезают. Вероятно, их сдают в приют. Возвращаясь, бабушка набирает их снова.
Зажатая между двумя корпусами дворца капелла для представителей императорской семьи. Здесь родился венский хор мальчиков. Сейчас сюда по-прежнему набирают мальчиков с вокальными данными, им предоставляют жилье и блестящее образование, чтобы они могли продолжить обучение в любой школе, потому что как только начинает ломаться голос - пожалуйте с чемоданом на улицу. Но до того момента они успевают объездить весь мир. Музыкальное образование их минимально - они умеют только петь - зато самодисциплина, навыки самообслуживания и хорошие карьерные перспективы. Друзья Анны, сами музыканты, отдали сюда своего сына и не жалеют.
Национальная библиотека. Здесь самый красивый читальный зал Европы, но чтобы читать в нем подлинники, нужно подать заявку и объяснить, для чего нужна книга. Потом подождать две недели специального приглашения. При входе отнимут мобильник, фотоаппарат, даже ручку и бумагу. В отдельной кабинке под специальной лампой на столике лежит уже раскрытый на нужной странице фолиант и перчатки. Рядом сидит работник библиотеки - вдруг у читателя нервы откажут. Сюда приходят, только чтобы увидеть старинные записи своими глазами. Скопировать информацию можно потом из оцифрованных источников. Анна смотрела так карту дорог Рима на куске тонко выделанной кожи.
Напротив стоит памятник императору Иосифу II, который долго ждал своего времени, правил суетливо, народной любви не снискал, и потому монумент строил на свои деньги и по своему проекту.
Мы расстаемся возле Венской государственной оперы. Благодарим и расходимся. Анна - на следующую экскурсию, мы - обедать в "Любеллу". А Семеныч отдельно - в Братиславу, за забытым в ботеле дорогостоящим жакетом Даши.
Это наш последний вечер в Европе. Завтра домой. Хорошо, что отпуск длинный. Будет время и дневник дописать, и фотки посмотреть. И подумать, куда съездить в следующий раз...
Фото можно посмотреть по ссылке:
http://www.vesti.sch690.info/12_Stranici_uchiteley/Kozlova/Avstriyskaya_ballada_Leto_%202013/10_july/Foto.htm | |
| Автор: | Ptenchik | | Опубликовано: | 16.08.2013 23:06 | | Создано: | 10.07.2013 | | Просмотров: | 3924 | | Рейтинг: | 0 | | Комментариев: | 0 | | Добавили в Избранное: | 0 |
Ваши комментарииЧтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться |
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!
Кобаяси Исса

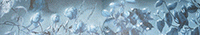
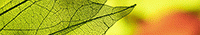
 Авторизация Авторизация |
|