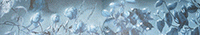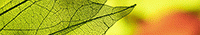|
|
Сегодня
21 декабря 2025 г.
|
Проза — это архитектура, а не искусство декоратора (Эрнест Хемингуэй)
Проза
Все произведения Избранное - Серебро Избранное - ЗолотоК списку произведений
Не судьба | Холодный дождь старательно омывал глухой столичный двор. Слегка присыпала перекошенные в вечной судороге качели мелкая ледяная пудра - заунывная предвесница снега. Возле мусорных баков возились бомжи. Согбенная старушка в зеленом пальтишке с детского плеча и анарексично худая тетка в тяжелых мужских ботинках, подвязанных веревками. Тетка куталась в плащ, измазанный на спине ядовито-оранжевой краской, как будто забор, размалеванный граффити на тему "город в огне". Плащ продувался ноябрьским ветром насквозь и способен был защитить разве что соломенное чучело в огороде..
Территория мусорной охоты была четко обозначена заранее, любое нарушение невидимых границ грозило схваткой. Безжалостной и часто кровавой. Выдержанные в ключе взаимопонимания отношения между бомжами держалась лишь в зоне прямого подчинения одного другому, как в стае волков. Тетка в плаще с первого взгляда производила впечатление жесткого лидера с садисткими наклонностями. Бабулька в пальто - убогого морщинистого ребенка с отклонениями в психике.
Окружающие дома смотрели на бездомных женщин холеными окнами, зашторивая их поскорее, боясь впустить в свой внутренний уют чужую безысходность. В мир яблочных пирогов, вымытых шампунем кошек, плоских телевизоров и раздутых от еды холодильников не вписывались чьи-то голодные желудки или грязные обмороженные пальцы.
Бездомные женщины, казалось, не замечали промозглых струек, ползших змеями по их морщинистым лбам и пожелтевшим щекам. Они, словно акулы мусорного моря, выплеснувшего часть своих недр на асфальт, хищно хватали любую мало-мальски пригодную добычу - пакеты с остатками кефира, консервные банки с размазанным по донышку жирком, плесневелые шматки хлеба, просроченные упаковки йогурта. Запасы тут же отправлялись в "закрома" - объемные пластиковые сумки. Особенно ценной добычей были пригодные в хозяйстве предметы. Сковородки, чайники, кастрюльки, тазики, тумбочки, табуретки. Причем, с увечьями любой тяжести - без ручек, крышек, носиков, пригоревшие, почерневшие, помятые, поломанные - какие угодно, лишь бы еще можно было ими воспользоваться. Однажды неслыханно повезло - попалась почти новая газовая плита. Теперь подруги сервировали ее к ужину не хуже ресторанного столика, накрыв толстой фанерой и разорванным пакетом вместо скатерти.
Покрутив в руках фирменный утюг с оторванной ручкой регулирования пара, тетка в плаще задумалась, представляя живую картинку: жена кинула в неверного мужа этого "красавца", муж увернулся, и утюг, слегка боднув стену, улетел в батарею. Ручка громко шмякнулась в угол, а травмированный утюг замер в коме на полу, как живое воплощение абсурдности брачных уз... Женщина любовалась симметричным рисунком паровых дырочек на гладкой керамической поверхности утюга и думала... Ведь совсем недавно, может вчера еще вечером, эта гладкость прикасалась к чистым рубашкам, шерстяным брюкам, шелковым пижамам и байковым пеленкам, наполненным запахом теплого молока.
Тетка в плаще старалась вообразить тонкий аромат глаженого белья. В памяти рождались обрывки прошлого, мелькали смутные серые тени ее умершего в тюрьме супруга и полоумной матери, отписавшей за бутылку водки последнюю крышу над головой бритым ублюдкам "из собеса". И еще сына, которого забили сапогами и бросили подыхать на морозе его же армейские товарищи. Он был должен им какие-то "айфоны". Она не смогла найти, она не смогла прислать своему Ваньке эти чумные "фоны". У них в деревне никто не знал, где их продавали и сколько они стоили. На всякий случай, послала деньги, отложенные на новый диван, все пять тысяч. И благословила служить хорошо, как дед и двоюродный дядька.
По обмотанной шарфом и накрытой полиэтиленом голове все ползли и ползли прозрачные слезы осени, а с ними заодно ползли внутри головы строчки последнего письма от Ванечки: "Мамань, привет! Ты не волнуйся, служу как надо. Если сможешь, пришли айфон. Телефон такой. Вообще-то надо три. Но хотя бы один. Оооочень надо, мам, очень. Побывок не обещают, командир сволочь, но его уважают. Пока. Твой сын Иван."
Отмахнувшись утюгом-инвалидом от кошмарных видений, она швырнула его обратно в ржавый бак и прикрикнула на подружку:
- Ну все, Галь, ха-рэ шмонать тут, отваливаем!
Галя никак не отреагировала на просьбу коллеги.
- Гааааль! Я кому, блин, сказала! Пшли, - еще громче крикнула на старуху тетка и для пущей доходчивости швырнула в нее гнилой картофелиной.
Скрюченная до состояния подковы Галя на самом деле вовсе не была Галей. Более того - она вообще не слышала в окружающем мире ни единого звука. Привыкшая реагировать лишь на тычки и удары, она была согласна быть Галей, Веркой, Старой проституткой и Квашней отмороженной, даже не зная о своем согласии. Сегодня она была Галей. Послушно собрав окоченевшими руками воняющие тухлятиной сумки, Галя побрела за более приспособленной к выживанию подругой.
Больной, изъеденный ревматизмом, позвоночник вкупе с артритом в суставах заставлял Галю двигаться медленно, загребая правой ногой и глядя на ходу на свои старушечьи конечности в дряхлых мужских сапогах. Это был щедрый новогодний подарок подружки. Вручив сапоги, та произнесла, а Галя по ее губам прочитала самую длинную речь за весь прошедший год. Не речь даже, а признание: "На, держи, стервоза, чтоб не сдохла до весны! А то с кем я тоску заливать буду? Любимка ты моя скрюченная!"
Галя наступила в глубокую лужу и остановилась. Она замерла и перестала двигаться. Мутный взгляд был направлен по-прежнему на больные ноги, но в опухших водянистых глазах вдруг исчезла жизнь. Они как будто погасли. Галя перестала чувствовать тяжесть пакетов, раздирающую боль в пояснице, она оттолкнулась от земли и взмыла вверх. Голова сначала закружилась, но потом сладостное тепло разлилось по телу. Взмахнув руками, она села на провод, растянутый между крыш. Провод тоже казался теплым. Грея ступни на проводе, Галя рассматривала снующих внизу прохожих, квадрат детской площадки, полоски проезжих дорог. Она взглянула в небо, надувшееся тучами и изливавшее божественную тоску на бренный мир. Ей захотелось подняться дальше, выше туч, выше облаков, к солнцу. И сгореть скорее... Но тут Галя услышала внизу знакомый голос, он звал ее. Странно, ведь ее слух не умел улавливать звуки. Откуда голос? Галя посмотрела вниз и разглядела женщину в плаще, оравшую на согнутую пополам старуху, застрявшую в луже:
- Галь, ну ты охренела? Чо в луже встала? Пшли! Купаться надумала?
Галя была глухонемой с детства. Но не от рождения. В сорок третьем попала с родителями в плен и почти сразу - в концлагерь для мусульман. Мама ее была татаркой. А папа... А папа отказался покинуть маму и остался с ней до конца, хотя был по происхождению французом знатных кровей. Детей фашисты сразу у родителей забирали: отрывали, отбивали прикладами, вырывали с мясом из рук. Галя знала, еще помнила медленно разжижающимся мозгом, что ее имя означало по-татарски "госпожа". Папа придирчиво выбирал имя дочурке, похожей на волшебный сказочный цветок, распустившийся на радость миру! Ниса. Ее имя было вовсе не Галя, и не стервоза, и не... Ее звали Ниса.
Папа часто читал ей на ночь стишок Тютчева, сильно картавя руское эр и сглаживая согласные:
Ниса, Ниса, бог с тобою!
Ты презрела дружний глас,
Ты поклонников толпою
Оградилася от нас.
Равнодушно и беспечно,
Легковерное дитя,
Нашу дань любви сердечной
Ты отвергнула шутя.
Нашу верность променяла
На неверный блеск, пустой, –
Наших чувств тебе, знать, мало, –
Ниса, Ниса, бог с тобой!
А потом хватал дочку на руки и кружил, и шептал: "ma belle... ma belle.." Ниса обожала папин голос, слушала его, затая в сердце счастье, чтобы не выплеснулось.
В лагере детей держали в чистоте и сытости, как в дорогом пансионе. Трехлетняя Ниса думала, что тут очень странные добрые фашисты, они просто хотят помочь папам и мамам прокормить детей, потому что война, потому что голод. Периодически некоторые из ее подружек исчезали бесследно. Их уводили к врачу и больше не приводили обратно. Ниса решила, что врач проверял детям здоровье перед тем как вернуть папе и маме. Ниса жадно ждала момента, когда придут и за ней тоже...
У врача был стерильный белый кабинет. Все было белое - кушетка, стол, стулья, шкаф, пол, стены, даже окно было аккуратно замазано белой краской.
- Как тебья зовют? - с тяжелым акцентом спросил строгий дядька в белом комбинезоне и белой марлевой маске.
- Ниса, - вжавшись в белый холодный стул, ответила она.
- Как? - уточнил дядька, заполняя клетки белого листа нарисованными крючками и петельками.
- Ниса.
- Насиональноть?
- Французская! - радостно выпалила Ниса, ожидая скорого появления мамы с папой.
- Почьему француз? Татар? Ты татар? Татар-ка? - изгибая язык во рту в непривычных позициях, продолжал каверкать буквы врач.
- Моя мамулечка - татарка! А я как папа - француженка! - кокетливо почесав бритую голову, объяснила Ниса.
- Йа! Да, поньятно, - сухо констатировал дядька.
Он вышел и вернулся с белой железной коробочкой. В ней что-то весело позвякивало. Ниса мечтала, как доктор ей сейчас проверит сердце и услышит в нем французский марш, гордый и воинственный, и поймет: она - француженка! Как папа!
- Садись в кресльио и закрой глиаса, - приказал дядька.
Ниса забралась в белое чудовище с ремнями и рогами, торчащими отовсюду. Доктор пристегнул ее покрепче, достал из кармана халата плотные беруши и заткнул крупные оттопыренные немецкие уши... Сверху он бережно прикрыл их смешными пушистыми наушниками.
Нисе проткнули обе барабанные перепонки. Взяли пункции мозга - головного и спинного. Забрали полтора литра крови и положили в морге на каталку корчиться и умирать. Бог послал ей длительную кому - мозг сильно повредили, задели мозжечок и еще какие-то важные центры... Существенно пострадала память и соматическая нервная система. К счастью, Ниса ничего не запомнила, начиная с момента проникновения острого инструмента в слуховой проход. Яростная боль милостью защитных механизмов организма навсегда осталась за гранью сознания.
- Эээй, Галька, шевели копытами-та, а то завтра будешь у меня весь день опять Старой сукой вместо Гали.
Тычок ботинком в спину вывел Нису из состояния наблюдения за собой сверху. Она часто выходила из своего тела, взлетала, как голубь, и поглядывала сверху на двуногих бескрылых птиц в шапках.
Самое сладкое время приходило вместе с ночью. Пристроившись в теплом подвале на трубе, подруга поила Нису настоящим чифирем! Это случалось далеко не каждый день, и даже не каждый месяц, но если уж... То это был настоящий праздник!
Взбодрившись черной густой жижей, почувствовав знакомые сбои ритма в сердце, подруга завела песню.
- Ксюш, Ксюш, ксюююшааааа, юпачка из плюююююшааа, рууууусая косаааааааа... - воплощая дергающимися плечами цыганочку, выла тетка в плаще.
- НиииииСсссс, нисссссс... - вдруг тихо зашамкала сегодняшняя Галя, не меньше взбодрив свои замшелые извилины чайной горечью.
- Чо ты там? Не слышу? Чо-чо? - заинтересовалась потугами глухого чучела, радостно хохоча, соратница по бездомности.
- Ниииису ти ба, - отчаянно старалась выразить мысль Галя.
- Ха-ха! Точняк, Галька! Не судьба! Не судьба нам с тобой. В теплой постельке помереть да в чепчиках с бантиками-та в гроб лечь - не судьбааааа. Стерва она, судьба эта гребаная, - орала подруга, крутя головой и бедрами, - О, ништяк! Будешь ты у меня завтра не Галя, а Несудьба! Это будет твое имя на неделю! Хошь на неделю, а? Несудьба ты моя горбатая! Ха-ха-ха!!!
- Ниса Тьбаааа, - беззубо тянула буквы Ниса, силясь улыбнуться своим нервно подергивающимся ртом. Она говорила, что ее зовут Ниса. Что она из знатного рода Дюбуа, что она француженка, как папа, и что она могла бы сейчас быть вместе с родителями на небесах. За что-то ее наказал Бог - заставил жить калекой, спать на трубе в подвале и есть тухлые отбросы с помойки. И все равно она счастлива, что она Ниса Дюбуа! И что она целую неделю будет почти самой собой, отзываясь на кличку Несудьба. | |
| Автор: | JZ | | Опубликовано: | 01.04.2013 21:50 | | Создано: | 03.2013 | | Просмотров: | 4507 | | Рейтинг: | 0 | | Комментариев: | 0 | | Добавили в Избранное: | 0 |
Ваши комментарииЧтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться |
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!
Кобаяси Исса

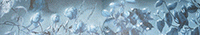
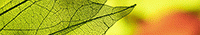
 Авторизация Авторизация Камертон Камертон
Перед нашим окном дом стоит невпопад, а за ним, что важнее всего, каждый вечер горит и алеет закат - я ни разу не видел его. Мне отсюда доступна небес полоса между домом и краем окна - я могу наблюдать, напрягая глаза, как синеет и гаснет она. Отраженным и косвенным миром богат, восстанавливая естество, я хотел бы, однако, увидеть закат без фантазий, как видит его полусонный шофер на изгибе шоссе или путник над тусклой рекой. Но сегодня я узкой был рад полосе, и была она синей такой, что глубокой и влажной казалась она, что вложил бы неверный персты в эту синюю щель между краем окна и помянутым домом. Черты я его, признаюсь, различал не вполне. Вечерами квадраты горят, образуя неверный узор на стене, днем - один грязно-серый квадрат. И подумать, что в нем тоже люди живут, на окно мое мельком глядят, на работу уходят, с работы идут, суп из курицы чинно едят... Отчего-то сегодня привычный уклад, на который я сам не роптал, отраженный и втиснутый в каждый квадрат, мне представился беден и мал. И мне стала ясна Ходасевича боль, отраженная в каждом стекле, как на множество дублей разбитая роль, как покойник на белом столе. И не знаю, куда увести меня мог этих мыслей нерадостных ряд, но внезапно мне в спину ударил звонок и меня тряханул, как разряд.
Мой коллега по службе, разносчик беды, недовольство свое затая, сообщил мне, что я поощрен за труды и направлен в глухие края - в малый город уездный, в тот самый, в какой я и рвался, - составить эссе, элегически стоя над тусклой рекой иль бредя по изгибу шоссе. И добавил, что сам предпочел бы расстрел, но однако же едет со мной, и чтоб я через час на вокзал подоспел с документом и щеткой зубной. Я собрал чемодан через десять минут. До вокзала идти полчаса. Свет проверил и газ, обернулся к окну - там горела и жгла полоса. Синий цвет ее был как истома и стон, как веками вертящийся вал, словно синий прозрачный на синем густом... и не сразу я взгляд оторвал.
Я оставил себе про запас пять минут и отправился бодро назад, потому что решил чертов дом обогнуть и увидеть багровый закат. Но за ним дом за домом в неправильный ряд, словно мысли в ночные часы, заслоняли не только искомый закат, но и синий разбег полосы. И тогда я спокойно пошел на вокзал, но глазами искал высоты, и в прорехах меж крыш находили глаза ярко-синих небес лоскуты. Через сорок минут мы сидели в купе. Наш попутчик мурыжил кроссворд. Он спросил, может, знаем поэта на п и французский загадочный порт. Что-то Пушкин не лезет, он тихо сказал, он сказал озабоченно так, что я вспомнил Марсель, а коллега достал колбасу и сказал: Пастернак. И кругами потом колбасу нарезал на помятом газетном листе, пропустив, как за шторами дрогнул вокзал, побежали огни в темноте. И изнанка Москвы в бледном свете дурном то мелькала, то тихо плыла - между ночью и вечером, явью и сном, как изнанка Уфы иль Орла. Околдованный ритмом железных дорог, переброшенный в детство свое, я смотрел, как в чаю умирал сахарок, как попутчики стелят белье. А когда я лежал и лениво следил, как пейзаж то нырял, то взлетал, белый-белый огонь мне лицо осветил, встречный свистнул и загрохотал. Мертвых фабрик скелеты, село за селом, пруд, блеснувший как будто свинцом, напрягая глаза, я ловил за стеклом, вместе с собственным бледным лицом. А потом все исчезло, и только экран осциллографа тускло горел, а на нем кто-то дальний огнями играл и украдкой в глаза мне смотрел.
Так лежал я без сна то ли час, то ли ночь, а потом то ли спал, то ли нет, от заката экспресс увозил меня прочь, прямиком на грядущий рассвет. Обессиленный долгой неясной борьбой, прикрывал я ладонью глаза, и тогда сквозь стрекочущий свет голубой ярко-синяя шла полоса. Неподвижно я мчался в слепящих лучах, духота набухала в виске, просыпался я сызнова и изучал перфорацию на потолке.
А внизу наш попутчик тихонько скулил, и болталась его голова. Он вчера с грустной гордостью нам говорил, что почти уже выбил средства, а потом машинально жевал колбасу на неблизком обратном пути, чтоб в родимое СМУ, то ли главк, то ли СУ в срок доставить вот это почти. Удивительной командировки финал я сейчас наблюдал с высоты, и в чертах его с легким смятеньем узнал своего предприятья черты. Дело в том, что я все это знал наперед, до акцентов и до запятых: как коллега, ворча, объектив наведет - вековечить красу нищеты, как запнется асфальт и начнутся грунты, как пельмени в райпо завезут, а потом, к сентябрю, пожелтеют листы, а потом их снега занесут. А потом ноздреватым, гнилым, голубым станет снег, узловатой водой, влажным воздухом, ветром апрельским больным, растворенной в эфире бедой. И мне деньги платили за то, что сюжет находил я у всех на виду, а в орнаменте самых банальных примет различал и мечту и беду. Но мне вовсе не надо за тысячи лье в наутилусе этом трястись, наблюдать с верхней полки в казенном белье сквозь окошко вселенскую слизь, потому что - опять и опять повторю - эту бедность, и прелесть, и грусть, как листы к сентябрю, как метель к ноябрю, знаю я наперед, наизусть.
Там трамваи, как в детстве, как едешь с отцом, треугольный пакет молока, в небесах - облака с человечьим лицом, с человечьим лицом облака. Опрокинутым лесом древесных корней щеголяет обрыв над рекой - назови это родиной, только не смей легкий прах потревожить ногой. И какую пластинку над ним ни крути, как ни морщись, покуда ты жив, никогда, никогда не припомнишь мотив, никогда не припомнишь мотив.
Так я думал впотьмах, а коллега мой спал - не сипел, не свистел, не храпел, а вчера-то гордился, губу поджимал, говорил - предпочел бы расстрел. И я свесился, в морду ему заглянул - он лежал, просветленный во сне, словно он понял всё, всех простил и заснул. Вид его не понравился мне. Я спустился - коллега лежал не дышал. Я на полку напротив присел, и попутчик, свернувшись, во сне заворчал, а потом захрапел, засвистел... Я сидел и глядел, и усталость - не страх! - разворачивалась в глубине, и иконопись в вечно брюзжащих чертах прояснялась вдвойне и втройне. И не мог никому я хоть чем-то помочь, сообщить, умолчать, обмануть, и не я - машинист гнал экспресс через ночь, но и он бы не смог повернуть.
Аппарат зачехленный висел на крючке, три стакана тряслись на столе, мертвый свет голубой стрекотал в потолке, отражаясь, как нужно, в стекле. Растворялась час от часу тьма за окном, проявлялись глухие края, и бесцельно сквозь них мы летели втроем: тот живой, этот мертвый и я. За окном проступал серый призрачный ад, монотонный, как топот колес, и березы с осинами мчались назад, как макеты осин и берез. Ярко-розовой долькой у края земли был холодный ландшафт озарен, и дорога вилась в светло-серой пыли, а над ней - стая черных ворон.
А потом все расплылось, и слиплись глаза, и возникла, иссиня-черна, в белых искорках звездных - небес полоса между крышей и краем окна. Я тряхнул головой, чтоб вернуть воронье и встречающий утро экспресс, но реальным осталось мерцанье ее на поверхности век и небес.
Я проспал, опоздал, но не все ли равно? - только пусть он останется жив, пусть он ест колбасу или смотрит в окно, мягкой замшею трет объектив, едет дальше один, проклиная меня, обсуждает с соседом средства, только пусть он дотянет до места и дня, только... кругом пошла голова.
Я ведь помню: попутчик, печален и горд, утверждал, что согнул их в дугу, я могу ведь по клеточке вспомнить кроссворд... нет, наверно, почти что могу. А потом... может, так и выходят они из-под опытных рук мастеров: на обратном пути через ночи и дни из глухих параллельных миров...
Cын угрюмо берет за аккордом аккорд. Мелят время стенные часы. Мастер смотрит в пространство - и видит кроссворд сквозь стакан и ломоть колбасы. Снова почерк чужой по слогам разбирать, придавая значенья словам (ироничная дочь ироничную мать приглашает к раскрытым дверям). А назавтра редактор наденет очки, все проверит по несколько раз, усмехнется и скажет: "Ну вы и ловки! Как же это выходит у вас?" Ну а мастер упрется глазами в паркет и редактору, словно врагу, на дежурный вопрос вновь ответит: "Секрет - а точнее сказать не могу". |
|