|

Блажен, кто ничего не знает: он не рискует быть непонятым (Конфуций)
Проза
Все произведения Избранное - Серебро Избранное - ЗолотоК списку произведений
| из цикла "Братское кладбище" | И смерть топталась часто рядом | Если бы Бог мог прожить наши жизни,то он легко мог обойтись без нас,но Господь этого не может.Поэтому чтобы попасть в гости к Богу,надо прожить свою жизнь - полностью или частично,это как у каждого из нас получится.
- А вдруг на том конце окажется не Бог, а дьявол?- с детства мучился таким вопросом и спрашивал ответа у бабушки!
- Ну,это как тебе ,милок,повезёт, - отвечала бабушка Феня.
Мне было еще пять лет,но я активно интересовался бессмертием.Я выяснил,что человек, а значит и я, смертен и это меня тревожило до слёз.Я не захотел умирать никогда уже с малых лет.Но ход окружающей жизни убеждал меня в обратном. Умер мой папа,когда мне было всего четыре года.Утонул шестилетний мальчик Вася и мы, его ровесники,приходили его провожать на тот свет, и со страхом смотрели на рыдающую маму.И её плачь пронзал моё детское сердце больше всего, а я в мучительном ужасе убежал с прощания.
Потом умерла наша одноклассница Лариса. И весь наш второй класс построили с букетиками цветов у забора,а мы с детским страхом в глазах смотрели как выносили из дома маленький гробик с худенькой девочкой внутри в красивом платье.Потом наши девчонки только и говорили про платье. Они боялись говорить о смерти.
И смерть в моём детстве топталась часто где-то рядом,напоминая о том,что Бог старательно собирает свою жатву...А вот о бессмертии новостей слышно не было.Слухи доходили об этом только из церкви,но воспитываемые в безбожии, мы плохо понимали это, и лбы не крестили,хотя Бога поминали всуе. Моя единственная встреча с местным батюшкой в родительский день на деревенском кладбище закончилась скандалом. Он обходил прихожан местной церкви и автоматически протянул мне крест для целования,а я плюнул в ответ. В то время я,городской мальчик,больше боялся заразиться от микробов,чем божьего наказания.Для меня тогда реальным бессмертным был только Кащей. Но Кащей казался страшным - и становиться на его место никак не хотелось!Тогда и появилась личная теория,что для бессмертия нужно жить без сердца.Без сердца мне казался другой сказочный герой Колобок,который от всех уходил,пока не встретил коварную лису. Она его и съела.
Мысли о бессмертии прошли со мной через всю жизнь. О смерти я боялся даже думать,потому что каждый раз всплывающие откуда-то из меня думы о ней просто парализовали волю и я, спасаясь от ужаса, засыпал.Но со временем постепенно заметил, что страх стал незаметно уходить.К тому времени я перехоронил всю свою родню - отца,маму,бабушку и жену.И моим застольным тостом стали слова из песни "Если смерти,то мгновенной,если раны - небольшой!" За это впечатлительные друзья меня поругивали,но я стоял на своём и они соглашались,что в конечном итоге в нашем возрасте тост не самый плохой!И тогда я пошел в своих циничных шутках дальше:
*
В могилу комья мерзлые легли
Прощальной и тяжелой русской пробы.
А мертвый думал в глубине земли:
«Жизнь весело стучит по крышке гроба?»
Только теперь я понимаю,если тебе не хватает в жизни слов любви - умри!И ты эти слова услышишь сполна!Шути-шути,снисходительно улыбается белозубыми зубами бессмертия,моя лирическая героиня - смерть,пока я не передавила тебе дыхание...Тогда уж не взыщи!
Но я надеюсь, хотя и не уверен,что эти мысли будут тревожить моё сердце даже когда я весь умру....Это и станет моим историческим бессмертием!..Ведь -
Смерть – тайна для живых,
для мертвых – это будни.
И последнее. Каждого из нас, кто наивно мечтает о бессмертии и думает, что он незаменим - устранит смерть. Фантаст Роджер Желязны сказал всем в назидание:
"Брось— кладбища забиты людьми, верившими, что их некому заменить."
Хотя, это всё с точки зрения человека,для которого бытие небытия закрытое пространство.Но для Бога нет потерь,потому что он принимает все свои решения по ту сторону и только верующий человек знает,что это так. Я не верующий,поэтому для меня свет для всех один,а тьма у каждого своя."Нельзя без конца вспоминать умерших. Тогда начинает казаться, что ты тоже мертв,"- напомнил всем живущим на прощание японец Ясунари Кавабаты. И теперь для меня состарившегося эти слова стали главными! | |
| Автор: | vvm | | Опубликовано: | 23.06.2017 07:48 | | Просмотров: | 4433 | | Рейтинг: | 0 | | Комментариев: | 0 | | Добавили в Избранное: | 0 |
Ваши комментарииЧтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться |
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!
Кобаяси Исса

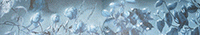
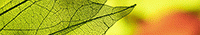
 Авторизация Авторизация |
|




