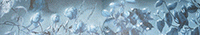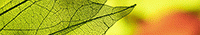|

Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой (Антон Чехов)
Проза
Все произведения Избранное - Серебро Избранное - ЗолотоК списку произведений
Этажом выше | Лампочка горела тусклым светом, растекаясь по пространству больницы. Палаты пустовали. Врачи играли в карты и приставали к медсестрам. Медсестры были молоды, но ужасно некрасивы, гораздо симпатичнее было бы вывернуть их внутренностями наружу и в таком виде пустить путешествовать по лунной тропе. Сегодня она была унылой, как никогда. Она заглядывала в окна коридора, но ничего не могла разобрать. Ночь скрыла от нее происходящее.
А в коридоре шли похороны Маркса. Он, хоть и был мертв, радовался почему-то больше всех. Может, потому что пламя зажигалок жгло ему пятки. А может, оттого, что гуси улетели на юг. Энгельс плакал и высмаркивался в его бороду.
- Купите ему платок, - кричала Клавдия Никаноровна, - или сковородку.
- Скоро водку! Скоро водку! – Увлеченно бил в ладоши Алеша Блаженный.
- Скоро в отпуск! Скоро в отпуск! – Восхищался лейтенант Дылдин.
Маркс водил глазами по сторонам, наблюдая за мухами. Мухи много выпили и не жужжали. Они лениво махали крыльями и бились в глаза окружающих.
Журналист Хныкин писал что-то в блокноте, бормоча под нос: «Так-так, так-так». Одна нога его была обута в валенок, вторая свисала с плеча.
- Сколько лет в месяце? – Спросил у него опоссум.
- 18 – Ответил он, задумался и замолчал.
Вдова покойного фрау Маркс собирала розы и отрывала их лепестки.
Рыжая собака, наблюдавшая за всем происходящим с потолка, тявкнула, махнула хвостом и, сев на табуретку, улетела.
Обеспокоенный Маркс уложил жену в гроб, надеясь тем самым спасти ее от зайцев.
Журналист Хныкин фотографировал свою печень.
Энгельс сидел на сковородке и обучал Клавдию Никаноровну ладушкам.
Зайцы вылезли из чернильницы, куда их засунули коридор с окнами, занавесками и Иваном Анатольевичем Блюмом. Он проходил мимо.
Лунная тропа выла от тоски и билась в чернильницу. Чернильница молчала, лишь изредка подпрыгивая.
Некрасивость медсестер пугала. Внутри они были прыщавы так же, как и снаружи. Они не были азиатками, но имели монгольский разрез глаз. У каждой на левой груди имелась огромная бородавка, правая была на 2 размера меньше левой. Тела их морщинились, и каждый их сантиметр имел несколько сот граммов лишнего веса. Врачей ждали дома жены, но они не переставали приставать к медсестрам и резаться в дурака до тех пор, пока не погаснет лампочка.
Лунная тропа фыркнула, обиделась и убежала к васильковым полям.
29. 12. 2005 г. | |
| Автор: | Curnik | | Опубликовано: | 29.10.2009 22:01 | | Создано: | 29.12.2005 | | Просмотров: | 3711 | | Рейтинг: | 0 | | Комментариев: | 0 | | Добавили в Избранное: | 0 |
Ваши комментарииЧтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться |
Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!
Кобаяси Исса

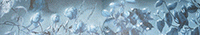
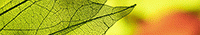
 Авторизация Авторизация Камертон Камертон
Той ночью позвонили невпопад.
Я спал, как ствол, а сын, как малый веник,
И только сердце разом – на попа,
Как пред войной или утерей денег.
Мы с сыном живы, как на небесах.
Не знаем дней, не помним о часах,
Не водим баб, не осуждаем власти,
Беседуем неспешно, по мужски,
Включаем телевизор от тоски,
Гостей не ждем и уплетаем сласти.
Глухая ночь, невнятные дела.
Темно дышать, хоть лампочка цела,
Душа блажит, и томно ей, и тошно.
Смотрю в глазок, а там белым-бела
Стоит она, кого там нету точно,
Поскольку третий год, как умерла.
Глядит – не вижу. Говорит – а я
Оглох, не разбираю ничего –
Сам хоронил! Сам провожал до ямы!
Хотел и сам остаться в яме той,
Сам бросил горсть, сам укрывал плитой,
Сам резал вены, сам заштопал шрамы.
И вот она пришла к себе домой.
Ночь нежная, как сыр в слезах и дырах,
И знаю, что жена – в земле сырой,
А все-таки дивлюсь, как на подарок.
Припомнил все, что бабки говорят:
Мол, впустишь, – и с когтями налетят,
Перекрестись – рассыплется, как пудра.
Дрожу, как лес, шарахаюсь, как зверь,
Но – что ж теперь? – нашариваю дверь,
И открываю, и за дверью утро.
В чужой обувке, в мамином платке,
Чуть волосы длинней, чуть щеки впали,
Без зонтика, без сумки, налегке,
Да помнится, без них и отпевали.
И улыбается, как Божий день.
А руки-то замерзли, ну надень,
И куртку ей сую, какая ближе,
Наш сын бормочет, думая во сне,
А тут – она: то к двери, то к стене,
То вижу я ее, а то не вижу,
То вижу: вот. Тихонечко, как встарь,
Сидим на кухне, чайник выкипает,
А сердце озирается, как тварь,
Когда ее на рынке покупают.
Туда-сюда, на край и на краю,
Сперва "она", потом – "не узнаю",
Сперва "оно", потом – "сейчас завою".
Она-оно и впрямь, как не своя,
Попросишь: "ты?", – ответит глухо: "я",
И вновь сидит, как ватник с головою.
Я плед принес, я переставил стул.
(– Как там, темно? Тепло? Неволя? Воля?)
Я к сыну заглянул и подоткнул.
(– Спроси о нем, о мне, о тяжело ли?)
Она молчит, и волосы в пыли,
Как будто под землей на край земли
Все шла и шла, и вышла, где попало.
И сидя спит, дыша и не дыша.
И я при ней, реша и не реша,
Хочу ли я, чтобы она пропала.
И – не пропала, хоть перекрестил.
Слегка осела. Малость потемнела.
Чуть простонала от утраты сил.
А может, просто руку потянула.
Еще немного, и проснется сын.
Захочет молока и колбасы,
Пройдет на кухню, где она за чаем.
Откроет дверь. Потом откроет рот.
Она ему намажет бутерброд.
И это – счастье, мы его и чаем.
А я ведь помню, как оно – оно,
Когда полгода, как похоронили,
И как себя положишь под окно
И там лежишь обмылком карамели.
Как учишься вставать топ-топ без тапок.
Как регулировать сердечный топот.
Как ставить суп. Как – видишь? – не курить.
Как замечать, что на рубашке пятна,
И обращать рыдания обратно,
К источнику, и воду перекрыть.
Как засыпать душой, как порошком,
Недавнее безоблачное фото, –
УмнУю куклу с розовым брюшком,
Улыбку без отчетливого фона,
Два глаза, уверяющие: "друг".
Смешное платье. Очертанья рук.
Грядущее – последнюю надежду,
Ту, будущую женщину, в раю
Ходящую, твою и не твою,
В посмертную одетую одежду.
– Как добиралась? Долго ли ждала?
Как дом нашла? Как вспоминала номер?
Замерзла? Где очнулась? Как дела?
(Весь свет включен, как будто кто-то помер.)
Поспи еще немного, полчаса.
Напра-нале шаги и голоса,
Соседи, как под радио, проснулись,
И странно мне – еще совсем темно,
Но чудно знать: как выглянешь в окно –
Весь двор в огнях, как будто в с е вернулись.
Все мамы-папы, жены-дочеря,
Пугая новым, радуя знакомым,
Воскресли и вернулись вечерять,
И засветло являются знакомым.
Из крематорской пыли номерной,
Со всех погостов памяти земной,
Из мглы пустынь, из сердцевины вьюги, –
Одолевают внешнюю тюрьму,
Переплывают внутреннюю тьму
И заново нуждаются друг в друге.
Еще немного, и проснется сын.
Захочет молока и колбасы,
Пройдет на кухню, где сидим за чаем.
Откроет дверь. Потом откроет рот.
Жена ему намажет бутерброд.
И это – счастье, а его и чаем.
– Бежала шла бежала впереди
Качнулся свет как лезвие в груди
Еще сильней бежала шла устала
Лежала на земле обратно шла
На нет сошла бы и совсем ушла
Да утро наступило и настало. |
|